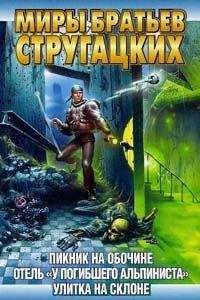Аркадий Стругацкий - Отель «У Погибшего Альпиниста»
— Когда это было? — быстро спросил я.
— Точного времени я, естественно, не помню, но хорошо помню, что мы тогда играли и продолжали играть еще некоторое время после их ухода.
— Это очень интересно, — сказал я. — Но об этом после. Так. Кто еще выходил?
— Да, собственно, остается одна только госпожа Мозес… Гм… — Он сильно поскреб ногтями обширную щеку. — Нет, — сказал он решительно — Не помню. Я, как хозяин, в общем следил за гостями и поэтому, как видите, кое-что помню довольно хорошо. Но вы знаете, был такой момент, когда мне чертовски везло. Это длилось недолго, всего два-три круга, но что было во время этой полосы удач… — Хозяин развел руками. — Я хорошо помню, что госпожа Мозес танцевала с ребенком, и хорошо помню, что потом она подсела к нам и даже играла. Но выходила ли она… Нет, я не видел. К сожалению.
— Ну что ж, и на том спасибо, — сказал я рассеянно. Я уже думал о другом. — А ребенок, стало быть, ушел с Олафом, и больше они не возвращались, так?
— Так.
— И было это до половины десятого, когда вы поднялись из-за карт?
— Именно так.
— Спасибо, — сказал я и встал. — Я пойду. Да, еще один вопрос. Вы видели Хинкуса после обеда?
— После обеда? Нет.
— Ах да, вы же играли… А до обеда?
— До обеда я видел его несколько раз. Я видел его утром, когда он завтракал, потом на дворе, когда все мы играли и резвились… Потом он из моей конторы давал телеграмму в Мюр, потом… Да! Потом он спросил меня, как пройти на крышу, и сказал, что будет загорать… Ну и все, кажется. Нет, еще раз я видел его днем в буфетной, он забавлялся с бутылкой бренди. Больше я его днем не видел.
Тут мне показалось, что я поймал ускользнувшую было мысль.
— Слушайте, Алек, я совсем забыл, — сказал я. — Как записался у вас Олаф?
— Принести вам книгу? — спросил хозяин. — Или так сказать?
— Так скажите.
— Олаф Андварафорс, государственный служащий, в отпуск на десять дней, один.
Нет, это была не та мысль.
— Спасибо, Алек, — сказал я и снова сел. — Теперь займитесь своими делами, а я буду сидеть и думать.
Я обхватил голову руками и стал думать. Что же у меня есть? Мало, чертовски мало. Я узнал, что Олаф ушел из столовой между девятью и половиной десятого и больше в зал не возвращался. Теперь так. Выяснилось, что вместе с Олафом ушел этот самый ребенок. Таким образом, насколько можно пока судить, чадо — это последний человек, который видел Олафа живым. Если не считать убийцы, конечно. И если считать, что все допрошенные говорят правду. Значит, Олаф убит где-то между началом десятого и началом первого. Ничего себе, промежуточен. Впрочем, Симонэ утверждает, будто без пяти десять в комнате Олафа было слышно какое-то движение, а примерно в десять минут одиннадцатого никто в номере не отзывался на стук дю Барнстокра. Но это еще ничего не значит, Олаф мог в это время выйти. Я с досадой дернул себя за волосы. Олафа вообще могли убить не в номере… Нет, рано, рано делать выводы. У меня еще остается Брюн по делу Олафа и госпожа Мозес по делу Хинкуса… Хотя что она мне может сказать? Ну, вышла на крышу, ну, увидела Хинкуса… Минуточку, а зачем она выходила на крышу? Одна, без мужа, декольте… Ладно. Вопрос: с кого начать? Поскольку убит Олаф, а не Хинкус, и поскольку госпожа Мозес уже наверняка знает об убийстве от супруга, начнем с чада. Спросонок люди говорят иногда интересные вещи. Заодно, может быть, удастся определить, какого оно пола, мельком подумал я, поднимаясь.
Стучать в номер к чаду пришлось долго и громко. Потом за дверью зашлепали босые ноги, и сердитый сипловатый голос осведомился: какого дьявола?
— Откройте, Брюн, это я, Глебски, — сказал я.
Последовало короткое молчание. Затем голос испуганно спросил:
— Вы что, свихнулись? Три часа ночи!..
— Откройте, вам говорят! — прикрикнул я.
— А в чем дело?
— Вашему дядюшке плохо, — сказал я наугад.
— Ну да?.. Постойте, дайте штаны надеть… Шлепанье босых ног удалилось. Я ждал.
Потом ключ в замке повернулся, дверь распахнулась, и чадо шагнуло через порог.
— Не так быстро, — сказал я, придерживая его за плечо. — Ну-ка, зайдемте в номер…
Чадо явно еще не проснулось до конца и поэтому не проявило особенной строптивости. Оно позволило вернуть себя в номер и усадить на разоренную кровать. Я сел в кресло напротив. Несколько секунд чадо смотрело на меня сквозь свои огромные черные очки, и вдруг пухлые розовые губы его задрожали.
— Так плохо? — шепотом спросило оно. — Да не молчите же, скажите что-нибудь наконец!
С некоторым удивлением я был вынужден признать, что это дикое существо, по-видимому, любит своего дядю и боится за него. Я достал сигарету и сказал, закуривая:
— Нет, ваш дядя жив и здоров. Речь пойдет о другом.
— Но вы же сказали…
— Ничего я не говорил, вам приснилось. Вот что: быстро и немедленно говорите. Когда вы расстались с Олафом? Ну, живо!
— С каким Олафом? Что вам от меня надо?
— Когда и где вы в последний раз видели Олафа?
Чадо помотало головой.
— Ничего не понимаю. Причем здесь Олаф? Что с дядей?
— Дядя спит. Дядя жив и здоров. Когда и где вы в последний раз виделись с Олафом?
— Да что вы затвердили одно и то же? — возмутилось чадо. Оно постепенно приходило в себя. — И чего вы вообще вперлись ко мне посреди ночи?
— Я вас спрашиваю…
— А мне на вас плевать! Убирайся отсюда, а то я дядю позову! Фараон чертов!
— Вы танцевали с Олафом, а потом ушли. Куда? Зачем?
— А вам-то что? Невесту приревновал?
— Хватит болтать, скверная девчонка! — гаркнул я. — Олаф убит! Я знаю, что ты — последняя, кто видел его живым! Когда это было? Где? Живо! Ну?
Наверное, я был страшен. Чадо отшатнулось и, словно защищаясь, вытянуло руки ладонями вперед.
— Нет! — прошептало оно. — Что вы! Что вы?..
— Отвечайте, — сказал я спокойно. — Вы вышли с ним из столовой и направились… Куда?
— Н-никуда… просто вышли в коридор…
— А потом?
Чадо молчало. Я не видел его глаз, и это было непривычно и неудобно.
— А потом? — повторил я.
— Позовите дядю, — оказало чадо твердо. — Я хочу, чтобы здесь был дядя.
— Дядя вам не поможет, — возразил я. — Вам поможет только одно — правда. Говорите правду.
Чадо молчало. Оно сидело, съежившись, на кровати под большим рукописным плакатом «Будем жестокими!» и молчало. Потом из-под черных очков по щекам потекли слезы.
— Слезы тоже не помогут, — сказал я холодно. — Говорите правду. Если вы будете лгать и изворачиваться, — я сунул руку в карман, — я надену на вас наручники и отправлю в Мюр. Там с вами будут говорить совсем уже посторонние люди. Дело идет об убийстве, вы понимаете это?


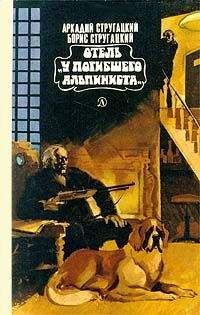
![Аркадий и Борис Стругацкие - Дело об убийстве [Отель «У погибшего альпиниста»]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)