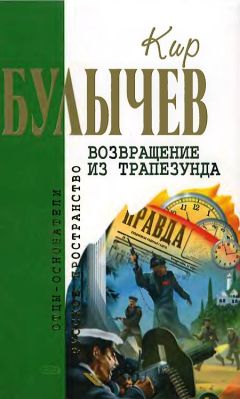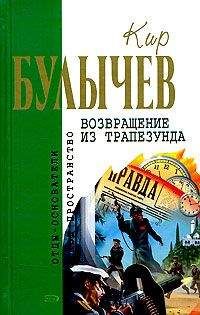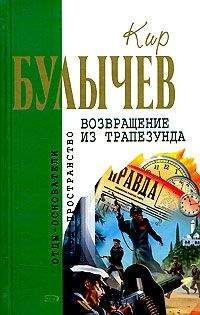Кир Булычев - Таких не убивают
Он с трудом заставил себя говорить.
— Не надо, — сказал он. — Я сам…
— А чего трудишься?
— Колодец, — сказал он. — Видишь, колодец совсем старый. Воды нет. Я здесь огород сделаю.
— Огород?
Под сосной у сарая место для огорода неподходящее, с первого взгляда видно.
— Я выкорчую, — сказал он, — выкорчую, понимаешь?
— Дело твое, а то бы я тебе все это быстро организовал, — сказал демобилизованный. — Не хочешь?
— Спасибо, не надо. Спасибо.
— Ну как знаешь. А ты мне тогда скажи, как на Пушкино выехать?
— На Пушкино?
Он положил на землю лом и пошел к забору, стараясь закрыть собой колодец, хотя в колодец заглянуть от забора было нельзя — далеко все-таки.
— Через километр, — сказал он и откашлялся, — будет поворот направо…
Шофер слушал его, кивал, а сам смотрел почему-то ему через плечо, на колодец. «Что я там забыл? Что он там видит?»
— Смотри, — сказал шофер, — твоя баба шляпу и шкатулку забыла. Дождем промочит.
— Это старые, ненужные, я выброшу, — сказал он быстро, не оборачиваясь.
— Может, мне тогда отдашь, а?
— Нет, — сказал он быстро. — Нельзя.
— Я заплачу.
— Нет.
— Ды ты не психуй, — сказал шофер. — Не хочешь — не надо. Подавись своим добром.
Он пошел к «Студебеккеру», забрался в кабину, дал газ, и грузовик, покачиваясь, как корабль, поплыл с ревом по проселочной дороге.
Как же он мог не услышать, что подъехала машина?
Он побежал к колодцу и первым делом кинул туда шляпу и шкатулку с бумагами. Тут же испугался, не остался ли в шкатулке паспорт жены. Поэтому, прежде чем продолжить разрушение колодца, сбегал домой, убедился, что паспорт спрятан там, только потом вернулся к колодцу, докончил его разрушение, скинул бревна и начал рыть яму неподалеку, чтобы той землей засыпать колодец…
* * *В дверь позвонили.
В этот момент Лидочка проявляла, вернее, сидела на полу в ванной и заряжала в бачок широкую пленку. Было девять вечера, середина сентября, дома никого — Андрей в Средней Азии. Лидочка крикнула:
— Сейчас!
Хотя знала, что за дверью не услышат.
Пленка, как назло, не влезала в бачок. Лидочка молча прокляла судьбу, положила пленку на пол, вышла из ванной и, не зажигая света в коридоре, отворила дверь.
Там стояла маленького роста смуглая бабушка в похожем на шинельку пальто, в черном с красными цветами платке, с большой голубой сумкой «Олимпиада-80» через плечо и чемоданом в руке. У бабушки были темные, въедливые глаза и губы в ниточку.
— Долго не открываешь, — сказала бабушка сердито. — Что ж я, всю ночь на лестнице стоять буду?
— Вам кого? — спросила Лидочка, щурясь от яркого, после темной ванной, света на лестничной площадке.
— Погодите, — сказала бабка. — Проверим. Ты только меня на лестнице не держи, в дом пригласи, окажи внимание пожилому ветерану труда. Я тебя не съем, не обворую, у меня паспорт есть…
Лидочке ничего не оставалось, как покорно отступить в коридор.
— Свет зажги, — сказала бабушка. — Я без свету ничего не разберу.
Лидочка прикинула, насколько опасен свет для пленки, оставшейся на полу ванной. Потом решила, что свет туда не проникнет.
Бабушка прошла на кухню, не спеша развязала платок, сбросила его на плечи, сказала:
— Жарко у тебя, затопили уж, что ли?
— Затопили. — Лидочка вдруг почувствовала себя виноватой за то, что затопили раньше времени.
— А фортку чего не открываешь? — спросила бабушка. — У тебя микробы размножаются.
Пока Лидочка послушно открывала форточку на кухне, бабка поставила на стул сумку, прислонила к стулу чемодан, сама же уселась на стол, вытащила из складок плаща бумажник из кожи под крокодила, а из него — листок. Долго искала очки, а Лидочка стояла над ней и думала, что если надо будет поить бабушку чаем, а все идет к этому, то печенья почти не осталось, и надо открывать последнюю банку малинового варенья. Сейчас бабушка зачитает листок, и из него обнаружится, что она — отдаленная, но некогда любимая родственница Андрюши Берестова. И что таковая решила навеки здесь поселиться, так как ее родное село переоборудуют в водохранилище.
— Точно, — изрекла наконец бабушка. — Я своей памяти уже не доверяю, все записываю, хотя в этой квартире бывала.
— А я вас не помню, — посмела начать сопротивление Лидочка.
— Куда тебе, — согласилась бабушка. — Это Средний Тишинский?
— А что?
— Не тяни, отвечай, не задумывайся.
— Средний Тишинский.
— Дом сорок два, квартира двадцать?
— Правильно. — Надежда на то, что бабушка ошиблась квартирой, испарилась.
— Тогда ты мне скажи. — Бабушка вперила взгляд увеличенных сильными линзами выцветших глаз в лицо Лидочке. — Ты мне скажи, что могло случиться с Верой?
— С кем?
— С моей младшей сестрой Верой. Тысяча девятьсот двадцать первого года рождения.
— Никогда не слышала! — Но Лидочка испытала облегчение, потому что бабушка наверняка не была родственницей ее мужа и по крайней мере не претендовала на угол.
— Вот именно, — сказала бабушка. — Так мне все говорят.
— Может, вам чаю поставить?
Лидочка не смогла скрыть облегчения в голосе. Бабушка его уловила.
— Сделай, сделай, — согласилась она. — Ты меня не бойся, я тебя обо всем расспрошу, переведу дух, а потом обратно поеду. У меня других дел нет. Где у тебя удобства, покажи.
С каждой минутой бабушка все более вживалась в квартиру. Она демонстрировала чувство собственного достоинства, была естественна и дружелюбна настолько, что Лидочке начинало казаться: не она ли сама вторглась в чужой дом и намерена здесь навеки поселиться.
Лидочка покорно проводила бабушку до ванной, зажгла ей свет, потом прошла на кухню поставить чайник и услышала бабушкин голос.
— Ты чего фотографическую ленту на полу раскидываешь? Чтобы я наступила, да? А если я поскользнусь и шейку бедра переломлю — ты ж по больницам со мной намаешься!
— Господи! — воскликнула Лидочка и с чайников в руке бросилась в ванную. Эта пленка была плодом трех часов работы, трех часов под мелким дождем — Лидочка промокла, долго выслеживала кошку, которая вывела котят в разросшемся за домом кустарнике.
Бабушка встретила ее в дверях, брезгливо, как раздавленную гадюку, держа пленку за хвост. Пленка была безнадежно засвечена.
А бабушка немного, из вежливости, посокрушалась. Потом с удовольствием пила чай, не скрывая своего намерения переночевать. Оказалось, что зовут ее Любовью Семеновной и разыскивает она свою младшую сестренку Верочку, десятью годами ее моложе. Верочка, как выяснилось, жила когда-то, сразу после войны, в этой квартире со своим мужем. Тогда квартира была коммунальной. Три комнаты — три семьи. Мужа звали Купидоном. Это прозвище, как поняла Лидочка, было дано ему за малый рост, пухлость щек и общую подвижность. Сестры расстались в войну. Вера пошла на фронт медсестрой, там познакомилась и сошлась с Купидоном — он же Иван Макарыч Спесивцев, который состоял в том же госпитале при хозяйственной части, — и в сорок четвертом вышла за него замуж, но не по любви, а чтобы не быть боевой подругой. Как война кончилась, Купидон начал служить в Москве, они поселились в этой квартире, занимали в ней светлую комнату, напротив кухни, потом купили маленькую дачу. Неплохо жили. Любовь Семеновна приезжала к ним сюда в сорок седьмом, дорога неблизкая, а потом сестры что-то поссорились, даже трудно вспомнить почему. Вера была несчастлива с Купидоном, все грозилась бросить его, но не решалась, а он страшно ревновал и даже как-то чуть не убил из ревности. Еще бы, ему уже было за сорок, а Верочке, красавице, как березка молодая, меньше тридцати. После ссоры сестры и переписываться перестали. А годы тем временем неслись, щелкали, и набежало около сорока. Лет десять назад написала Любовь Семеновна своей сестре письмо, потом, в восьмидесятом, — поздравление с Первым мая, но ни ответа, ни привета. Решила, что та все сердится, хоть пора и забыть, — чего не бывает между родными! Но недавно Любовь Семеновна начала беспокоиться. Хоть не были сестры близки, к старости человек начинает искать родные души. И вот результат: Любовь Семеновна вышла на пенсию и поехала в Москву, поглядеть на сестру. А где она — одному Богу известно…