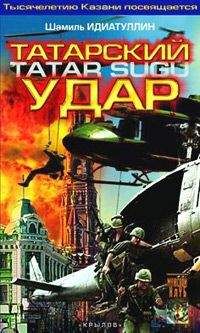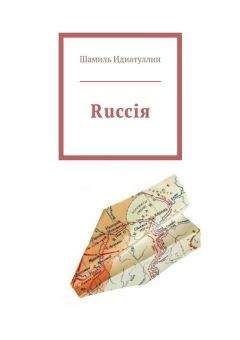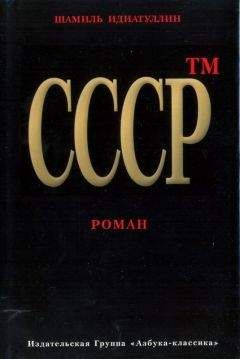Бояться поздно - Идиатуллин Шамиль
Аля пошла вдоль стен, полюбовалась фотками Алины, умевшей, как выяснилось, широко и весело улыбаться, и Марка, который, как и ожидалось, с младенчества был дурак дураком, неспособным выстоять секунду перед объективом, не подмигнув, не скорчив рожу, не закрыв лицо растопыренными пятернями или не наставив рожки и без того смешному лысому бате. Тут фото тоже были выстроены по хронологии и в финальной части обходились без ребят.
А вот и она, Аля. Мелкая на руках у папы, в садике, с грудным еще Амиром, на море, у дауани, о, эта фотка свежая, новогодняя, из Алиного телефона — селфи под елочкой. И дальше папа, мама и Амир, мама с незнакомой прической, а Амир тощий, выше мамы и как будто небритый. Через нейросеть прогнали, что ли, подумала Аля, гоня от себя куда более логичное объяснение.
Объяснение не отгонялось.
Аля, повертев головой, громко сказала:
— Слушай, «Это просто игра», ты мне что-то сказать хочешь или так пугаешь, чисто поиздеваться? Я и без тебя поняла, что могу тут навсегда… Или я что-то неправильно делаю?
По витринам скользнула легкая тень, а комнату заполнил знакомый скрежет.
Аля вскинула руки, готовясь то ли сбросить наушники и драпать, то ли закрыть лицо, как Марк на детском фото. Но скрежет уже оборвался, а тень замерла. И была она не посторонней, а ее, Али, собственной. Узкий застекленный шкаф, неприметно стоявший в дальнем углу, оказался модернизированной версией напольных часов из черного кабинета. Скрежет, надо полагать, сопровождал очередное движение древнего механизма, не оказавшее заметного воздействия на минутную стрелку — она так и не дотягивала пары делений до верхней риски. Зато высокое стекло перед маятником теперь налилось молочным светом и было, кажется, заполнено строчками текста, словно десяток телефонных экранчиков поставили друг на друга и заставили работать в режиме почти бесконечной новостной ленты.
Аля осторожно подошла, всмотрелась в текст и подняла брови.
Это правда была лента, только не новостная, а их чатика с обсуждением нескольких загадок — про агрегаторы, пункт выдачи заказов и налет на жандармерию.
Либо я рехнулась и гуляю по чертогам собственного свихнувшегося разума, либо эта игра знает и видит до фига того, что ей не положено, подумала Аля с неожиданной злостью. Она скользнула пальцем по стеклу, чтобы оценить, насколько в историю их тихой забавы влезли чужие носы.
Дверца со скрипом отошла, открывая узкое темное нутро часов, которое вместо маятника занимала то ли старая швабра, то ли копье, нет, знамя, незнакомое, хотя вру, чем-то знакомое…
Разобрать подробности Аля не успела. Она вылетела из игры и, окоченев, жадно вбирала для запоздалого осмысления, для памяти и для будущего, если оно случится, конечно, сразу три слоя того, что придется считать ее реальностью до скончания дней, если оно случится, конечно: на первом, экранном, тускнеет свернутое полотнище с еле опознаваемым собачьим оскалом, на втором, светотеневом, гостиную пересекают, направляясь к лестнице, два черных силуэта, а на третьем, слое не столько уже жизни, сколько смерти, равнодушно стынут по местам запрокинувшие головы Алиса, Тинатин и Марк — и Аля изо всех сил пытается удержать на плечах голову, которая норовит запрокинуться таким же необратимым образом, будто наброшенная на лицо целлофановая пленка тянет затылок к лопаткам, к хребту, к поражению, а потом пленка растворяется, как от поднесенной спички, и Аля с силой бьется лбом о спинку переднего кресла.
3. Кто я и что мне надо
Самого страшного не бывает.
Нет такой беды, которая не окажется терпимой на фоне новой беды. И так до бесконечности. Всякий «ужас» еще не «ужас-ужас-ужас». Так что лучше обходиться не только без дурацкого «всё будет хорошо» — всё-то точно не будет, это логически невозможно, — но и без отчаянного «хуже не будет». Будет. Возможно, прямо сейчас.
Аля уже не помнила, как воспринимала фильмы вроде «Дня сурка», герои которых попадали во временную петлю и раз за разом проживали один и тот же день, или час, или жизнь. Таких фильмов куча ведь: «Исходный код», «Уровень босса», «Палм-Спрингс», даже наше «Зеркало для героя». Наверное, как все — и как сценаристы, которые почти в каждом таком фильме заставляли героев не только сетовать на невезение («угораздило застрять в этом дурацком дне, а не в медовом месяце на курорте»), но и прокачивать разнообразные скиллы, а в основном становиться человечным и эмпатичным.
Аля не считала себя самой эмпатичной во дворе, но и стервой не считала. Она сразу была настроена душевно к людям из чатика, а перед Тинатин почему-то благоговела. Личное знакомство не изменило или скорректировало, а немножко подвинуло, что ли, это отношение, как чуть сдвигается настоящая мебель по сравнению с тем, как ты прикидывала на схеме. А теперь она знала ребят как облупленных, не только их словечки и манеры, но и достоинства, недостатки, вкусы и желания, в том числе тайные. Они могли притворяться вредными, как Алина, немножко высокомерными, как Карим, или брутальными, как Марк, но все они были невиновными в том, что происходило, и по большому счету невинными. Особенно по сравнению с Алей. Статус прожженной грешницы ей даже не снился, но с ребятами она чувствовала себя мудрой бабкой рядом с детишками, которых требуется защитить. Только защитить их Аля не могла. Она себя-то не могла защитить.
Поэтому, наверное, Аля неосознанно исходила из того, что произошла, товарищ Сталин, страшная ошибка, которая вот-вот разрешится, потому что все так плохо, что хуже быть не может. Оказалось, может.
Гораздо хуже застревания в игре оказалась ставшая приложением к игре реальность. И куда худшим злом стало одиночество. Кругом полно народу, но он, включая Алису, часть, пусть очень живая и чересчур активная, временной декорации, которая ничего не поймет, а если поймет, не поверит, а если поверит, останется на этом витке, а в следующем я опять буду одна.
Но и с этим можно жить, пусть и как карусельная лошадка, — кабы не убийцы. Настоящие настолько, насколько это возможно в единственно доступной реальности.
Самым адским днищем стало постепенное размывание памяти.
Поначалу Аля списывала его на случайности, нервозность и утомление. У любого из головы может вылететь самое обычное и ежедневно повторяемое слово. Или дата. Или событие. День рождения дальней подружки, любимая песня мамы, рисунок на рюкзаке брата, имя кота или деда. Нет, не у любого. И не так, что на каждом витке твой безграничный массив памяти как будто немного стесывается или высыпается сквозь невидимые щели, а вместе с ним чуть меньше делается весь мир, который для каждого равен тому, что человек ощущает, знает и помнит.
Аля помнила все меньше, знала, что выхода нет, и ощущала глухое безнадежное отчаяние.
Всё забывалось. Всё не в смысле поголовно, а в смысле любое. Важное и незначительное, постоянное и редкое, нужное только для кроссвордов, вроде манильской пеньки из пяти букв, или для выживания, как в папином дурацком анекдоте: «Шел по лесу ежик, забыл, как дышать, и умер».
А если я забуду, подумала Аля мрачно и застыла от следующей мысли: а мне точно надо дышать, если я в игре?
Алиса, скрипевшая снегом за спиной, воткнулась Але в спину и возмущенно осведомилась, чего тормозим.
— Прости, — сказала Аля, отшагнула, уступая дорогу и попробовала усмирить дыхание.
— Аль, ты чего? — спросила Алиса, озабоченно вглядываясь Але в лицо. — Сердце колет, живот, что?
— Нормально, — со вздохом ответила Аля и зашагала вперед — к домику, игре, убийцам и выходу на очередной виток с потерей очередного кусочка памяти.
Сопротивляться Алисе было бесполезно, как и объяснять. Потом поэкспериментирую. Если не забуду.
Надо записывать.
Ага. Как и где, если всякий раз всё вокруг откатывается к исходному состоянию? Даже зарубать себе на носу или писать на лбу, как незабвенная Алена Вячеславовна советовала, смысла ноль — лоб и нос тоже откатываются. Такая, блин, вечная молодость, как поется в старой песенке. Зачем я ее помню, если слышала всего раз в жизни?