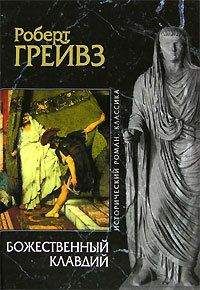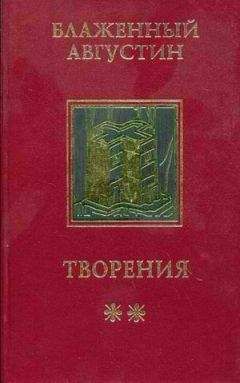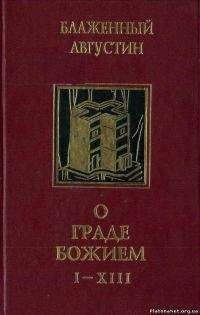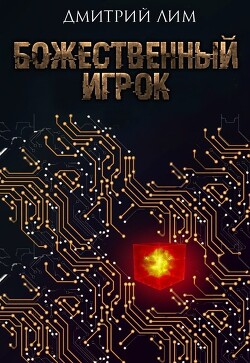Божественный и страшный аромат (ЛП) - Курвиц Роберт
— Тьфу ты, Хан, у тебя работа проще некуда. Давай ты ей займешься!
— Тереш, ради бога, давай возьмем вот этот блокнот.
— Нет. Всё должно быть в этой книжке.
— Да что в ней такого особенного?
— Дирек Трентмёллер, — произносит Тереш прежним механическим голосом. А потом смотрит на Хана, широко раскрыв глаза: — Дирек Трентмёллер! Алло! Вы уверены? А какие-нибудь заметки о нём есть?
— Отпуск.
— А еще что-нибудь?
— Продавец линолеума, — устало отвечает секретарша на другом конце телефонной линии.
— Дирек, чёрт его дери, Трентмёллер, семнадцатое – двадцать четвертое июня. Продавец линолеума.
Йеспер бьет кулаком по столу, который сам спроектировал пять лет назад.
Хан кладет клешню омара на тарелку:
— А вот теперь настало время ZA/UM.
Диреку Трентмёллеру снится Продавец линолеума. Всё, что видел Продавец линолеума, кружится перед его глазами, словно однородная масса из плоти и тьмы. Иногда он просыпается. И не может уснуть. Потом вихрь из плоти и тьмы возвращается, Дирек засыпает. Во сне Дирека Продавец линолеума — его любовник. Другой человек. Сквозь разбухающее бесформенное воспоминание доносится щелчок. Скрип деревянного окна. Дребезжание стекол в рамах. Потом глухой стук, и Дирек просыпается.
Смерть. Должно быть, это смерть. Темно-коричневые цветы на обоях. Тени от веток шевелятся, а шторы развеваются на ветру. Да, всё так, как всегда представлял себе Дирек. Длинная худая фигура снимает серое в елочку пальто перед открытым окном. Там кто-то еще! Толстая смерть в шапке слезает с подоконника на пол и шепчет: «Окей, я внутри. Посмотри, всё ли чисто».
Длинная смерть подходит к кровати и отключает кнопку вызова. Толстая смерть зажигает настольную лампу и, подойдя к Диреку, ласково проводит рукой по его волосам. Эти большие темно-карие глаза кажутся знакомыми.
— Дирек. Не волнуйтесь. Нам кое-что от вас нужно. Мы хотим, чтобы вы кое-что вспомнили, и для этого мы сделаем вам укол. Это не больно. Это будет как сон.
Дирек слышит щелчок чемоданного замка, и длинная смерть зажимает ему рот рукой в кожаной перчатке. Пахнет чем-то странным, всё расплывается, добрые темно-карие глаза смотрят на него.
— А если он и правда не помнит? Как тогда это сработает?
— Увидим.
Дирек Трентмёллер открывается перед Терешем. И вот уже Тереш становится кошмаром на границе яви и сна. Тигром, бредущим по кромке воды. Он всегда рядом, всегда настороже. И всюду, где бы ни оказался Дирек, тигр крадется за ним, принюхивается и находит Продавца линолеума. Он преследует его в Норрчёпинге, городе в ардских фьордах, на магнитном поезде, в полярном поселке Елинка, и в каждом темном закоулке, куда заходит Продавец линолеума, сияют фосфорным светом его глаза. Он прячется в подвале с низким потолком и бетонными стенами, где Продавец линолеума корчит рожи племяннице. Когда тот наконец добирается до Ваасы, тигр ждет его на магнитовокзале, вылизывает лапы, сидя в конце платформы — там, куда не достает свет фонарей. Тигр шелестит ольховником в парке, и Продавец линолеума вздрагивает от страха. Когда он весенним утром прогуливается по улицам Ловисы с дырой, прорезанной ножницами в кармане брюк, перед ним вдруг открывается сердце тигра. И там он видит школьный двор, дерущихся мальчишек.
Когда Продавец линолеума приезжает в Шарлоттешель, Тереш парит над ним в восходящем потоке, он хищная птица, он наблюдает. У него орлиные глаза, он видит всё. И вот в одну из ночей он видит, как Продавец линолеума исчезает в гостиничном номере на верхнем этаже «Хавсенглара». Половины тех, кто был там, больше нет. День за днем Продавец линолеума забывает о своем существовании. Пока, наконец, не остается только дряхлый, слабоумный Дирек Трентмёллер.
«Линолеум, линолеум, линолеум… — бормочет он, — а есть вообще такое слово, "линолеум"?» — Странное, странное чувство потери. Но это не из-за линолеума. Продавец линолеума оплакивает себя, иногда вспоминает себя и представляет себе жизнь, в которой он не исчезал. Он рассказывает непристойности и читает мемуары Видкуна Хирда. Предается привычным фантазиям. Дирек Трентмёллер тоскует совсем о другом.
Двадцать девятое августа двадцать лет назад, ему нехорошо. Случилось страшное, он не мог уснуть всю ночь, утренняя газета осталась лежать на полу в ванной. Четыре дочери министра образования пропали без вести. Дирек Трентмёллер не может дышать, его мир сломался, время вышло из колеи. В свете красной лампы фотограф-любитель рассматривает фотографии, сделанные с гостиничного балкона. У него трясутся руки; он мог бы поклясться, что они там были. Он в этом уверен. Но на бельевой веревке на прищепках висят фотоснимки, и на каждом из них — horror vacui. Ничто.
На фотобумаге, плавающей в ванночке с проявителем, проступают контуры обрыва. Бледное летнее небо. Но их там нет.
Хан и Йеспер волокут к такси Тереша, который то приходит в себя, то снова отключается. Его ботинки скребут по земле, его трясет. Голос Йеспера искажается, будто в кривом зеркале. Йеспер… Все-таки Йеспер — отличный парень.
— Тереш, Тереш! Не спи. Что нам с тобой делать?
— Он этого не делал. Это был не он.
— Окей, а с тобой нам что делать, отвезти в больницу? Тереш!
Голос Тереша еле слышен:
— Что теперь делать?
— Не знаю, ты скажи! Везти тебя в больницу, или отоспишься?
Тереш пытается встать на ноги.
— Нет, вы не поняли. Это тупик. Простите… Я не знаю, что делать дальше.
Хан придерживает голову Тереша, когда они вдвоем усаживают его в такси.
— Погоди, тигр. Сперва ты проспишься. Дальше буду действовать я. У меня есть план.
Тереш теряет сознание. Всё исчезает.
9. БОЖЕСТВЕННЫЙ И СТРАШНЫЙ АРОМАТ
Что за божественный и страшный, загадочный аромат витал тогда в воздухе? Меня зовут Амбро́зиус Сен-Миро́, суру говорят «Амброзиус Пю́хя-ми́ра», а граадцы называют меня Святами́ром. «Diduška?» — спрашивают они с распахнутыми от обожания глазами, но я отвечаю им: «Нет. Я вам не diduška». Я Амброзио Санта-Мира в Меске, Амвросиос Агиами́ра у кипаридов, я амброзия, святой мир. Ты избрал меня, наделил меня властью над твоей жизнью, твоими взглядами, шкафчиком, где ты хранишь свои мысли. Те, что будешь обдумывать перед сном и на следующее утро, у окна в общественном транспорте. Но то, что делаю я, больше не подлежит обсуждению, здесь не нужны аргументы, нет стороны, которую можно бы было принять. Время сомнений прошло.
Я могу явиться когда угодно, и мой приход знаменует смену эпох. Это огромное счастье — жить в одно время со мной. Я непогрешим, и ты теперь тоже. Твое решение может быть правильным или ошибочным. Мое решение — это то, чему суждено быть. Во времена, когда идея Бога еще казалась вам интересной, я был Пием Перикарна́сским; я был Э́рно Пастернаком, когда вы хотели, чтобы вас предали и принесли в жертву. Я заставлял вас петь мне пастернакалии. Славословия моей жестокости и моей бессмысленной войне. Потому что вы хотели меня ненавидеть. Я был Франконегро; вы были националистами, вы хотели мировой валюты с черными банкнотами и милитаризма. Вы хотели работать на заводах и служить Богу. И архитектуры в средневеково-индустриальном стиле, чтобы жить под бетонными сводами. Я был женщиной, Долорес Деи, когда вам казалось, что вам нужна мать, идеальная мать. У меня была красивая грудь, я была молода, и вы тоже, вы хотели влюбиться в меня, и я позволила вам это. Вы хотели гуманизма, новых надежд, заботы о ближнем. Я отдала вас в школу и научила языкам. Вы устали от меня, и я умерла. Вы захотели мир, в котором меня бы не было. И я стал для вас светочем Солой, равнодушной девочкой, которая сидела сложа руки и смотрела, как вы совершаете перевороты. «Ах так, ну тогда делайте что хотите, ошибайтесь и ничему не учитесь», — думала я.