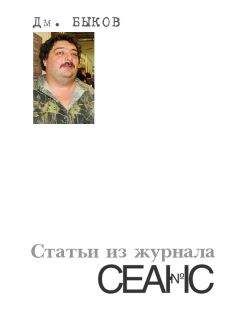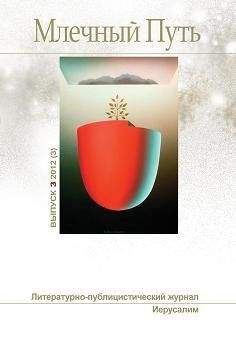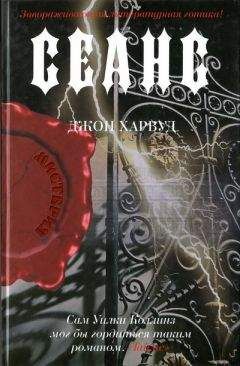Александра Свида - Паника в Борках
Все живое ждет благодетельной прохлады — вечера.
К вечеру начали набегать тучки, собирались все в большем и большем количестве, а к ночи огромная мохнатая туча нависла над монастырем, спустилась ниже креста церковного, накрыла, придавила собою кельи.
Наступила жуткая тишина и непроглядная тьма.
Слабо мерцают лампадки за маленькими оконцами келий. Монастырь погрузился в сон.
Недалеко от церкви, за большим палисадником — домик игуменьи.
Уютно и светло в ее приемных комнатах и душно в маленькой спальне.
На узкой жесткой постели беспокойным сном спит игуменья.
Брови нависли над впадинами глаз, скорбно опустились углы губ, стоны-вздохи вырываются из впалой груди.
Видит себя старуха-игуменья юной монахиней Антонией.
Снится ей маленькая узкая келья. Высоко проделанное оконце скупо пропускает свет и отнимает возможность любоваться ликом Божьим.
Все обдумано строго. Монахиня не должна отвлекать своих мыслей от поста, молитвы и изнурения плоти.
Перед иконой Богоматери слабо теплится лампадка, на аналое Евангелие и крест. Затем — табурет и узкая, жесткая кровать составляют все убранство келии.
На кровати разметалась стройная молодая монахиня; не о молитве и покаянии думает она, душа ее далеко от кельи.
На губах блуждает улыбка, широко раскрытые глаза блестят негой, и видно, что перед мысленным взором ее плывут одна за другой яркие, светлые картины.
Нежится и отдыхает в волнах воспоминаний девичья душа.
Вот соскользнул к плечу широкий рукав и в полумраке кельи обрисовалась белая, полная ручка.
Невольно сама залюбовалась красотой ее линий и розоватым мрамором кожи.
Улыбнулась и опять замечталась…
Постепенно замирали мысли…
Истома, предвестница сна, охватывала усталые члены.
В ее засыпающем мозгу зарисовывается картина празднично убранной церкви.
Венчики икон обвиты цветами, горят паникадила, воздух густо напоен ладаном и запахом воска горящих свечей, путь к алтарю усыпан зеленью.
Лучи солнца золотыми искрами прорезают облака фимиама, оживляют позолоту иконостаса, скользят по молящимся.
На амвоне две старших монахини, своими черными мантиями прикрывают всю в белом, коленопреклонную юную девушку, готовящуюся произнести страшный обет — умереть для мира.
На клиросе поет хор.
В темном углу безутешно рыдает распростертая на полу женщина.
Она знает, что вот-вот услышит, как дочь отречется от нее, а затем не пройдет и часа, как ее юную любимую красавицу Дашу на длинный, длинный ряд лет запрут в гробу-келье.
— Боже мой, Боже! Не ведает мое дитятко, что творит. Наступит час сожаления, откроются глаза и уши, остававшиеся так долго слепыми и глухими к ее материнским просьбам и увещаниям. Сейчас не хочет видеть она ее слез и слышать ее мольбы.
Врагом считает мать родную.
Недоброжелательно косятся на рыдающую мать монахини. Строго смотрят с икон глаза угодников, а там на амвоне же начался роковой обряд… Проснулась молодая монахиня, вздрогнула, приподнялась на постели. С ужасом всматривается во мглу кельи, с губ сбежала улыбка, потухшие разом глаза наполнились слезами. Вскочила… отчаянно заломила руки… Не могу! Не могу жить одна! Это так страшно! О, как невыносимо тяжело!.. Гриша мой! Видишь ли ты, понимаешь ли ты все это?
Мама моя, мама! Приди, вырви меня отсюда!.. Спаси меня!..
Слезы градом катились из глаз.
… Я не смею думать о земном, не смею даже плакать… Я — монахиня!
Нет возле меня живой души… Все одна… одна… Как это ужасно!
Ты там не знаешь, Гриша, как мне тут холодно, тесно, душно…
Но нет-нет! Ты знаешь, ты видишь, слышишь меня!
Я не хочу думать о том невыразимом ужасе, не хочу помнить рассказов…
Тот несчастный страдалец… ведь это не ты — не ты?
В моей памяти и снах ты остался живой, веселый, ласковый.
Боже милостивый! Прости его и помилуй! И не оставь меня в моем одиночестве. За что отступился от меня мой ангел-хранитель? За что Ты покинул меня милостью своею?
Боже мой, Боже! Молюсь Тебе, зову Тебя из последних сил, услышь, помоги!.. Одна, все одна!..
Я не хочу, не могу быть одной! Сейчас застучу, закричу, разобью, разломаю окно! Дико горят глаза… С угрозой протянуты руки…
Замигала, потухла лампада.
Черная тень метнулась к дверям, распахнула их…
Глубоко, жадно дышит.
Бесшумно двинулась под покровом густой листвы деревьев вглубь ограды, к могилкам.
Ей легче среди мертвых, они поймут и не осудят. Там нет строгих глаз матери-игуменьи, нет ехидно смиренной казначеи Варламии.
Забралась в самый угол, тоскует, мечется. Отделила ее от мира стена каменная, толстая, высокая.
Стучи — не достучишься; кричи — не услышат.
— Мать ты моя родимая; чует ли твое сердечко, как я здесь маюсь? Помнишь ли страшный день моего пострижения? Не послушалась тебя — решилась…
Думала — легче будет. Гришу забуду, душа успокоится. Не стало мне легче; лучше бы с тобой осталась.
Боже, как душа болит, как сердце рвется. Что это со мною? Аль новую беду чую; старой ли избыть не могу?
Боль души до краю дошла!
Боже мой, Боже! Где же Ты там в небесах?
Да полно, уж милосердный ли Ты и праведный? Не Иегова ли Ты, вечно карающий?
Схватилась руками за грудь, за голову, потом к небу их протянула, на землю холодную бросилась. Нет облегчения! Над нею небо высокое, синее; звезды мигают холодные. Одна!..
Задумалась… замечталась…
В мозгу у нее запечатлелась яркая картина ее ночного гадания…
Глубоко, в глуши лесной мельница Михеича. К ней ведет хорошо протоптанная тропинка. Не одна она в ночную пору сюда о судьбе своей погадать пробирается, многие и до нее ходили, и после нее пойдут про счастие или горе грядущее узнать.
Сердце больно стукнуло… Остановилась…
— А вдруг и я горе какое увидать спешу? Не вернуться ли назад?
Перед глазами Гриша как живой встал. Высокий, статный, кудрявый; глаза отвагой, молодечеством блещут.
— Ах ты, любимый мой! На грудь твою так хорошо склонить голову.
Обовьет меня рука сильная; надо мною он нагнется, с волосами русыми его кудри черные перепутаются, шепчет слова нежные, любовные; устами горячими жадно прильнет, душа моя из тела вон запросится.
Ах, Гриша, сокол мой ясный! Да я за тобою на край света пойду! Ни мук, ни несчастия не испугаюсь!
Для чего же гадать иду?
Люди злые, завистливые вокруг его имени клевету плетут; мою бедную маму смущают…
Дальний он. В городе на заработках постоянно, землей своей не занимается, а одет щеголем, ну и плетут.