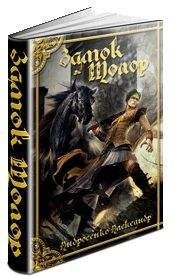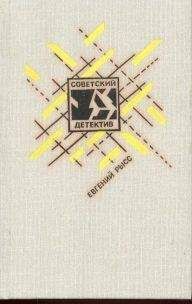Белый крестик - Миллер Андрей
— …и умру я не на постели, при нотариусе и враче…
Первый патрон отправился в барабан.
— …а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще…
Второй и третий; барабан проворачивался с равномерными щелчками.
— …чтоб войти не во всем открытый, протестантский прибранный Рай…
Пятый, вслед за четвёртым. Инсаров видел всё как будто замедленным.
— …а туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут…
Шестой патрон, последний.
— …вставай!
Щелчок иного тона: это захлопнулась шторка.
Следователь слишком пристально следил за действиями Гумилёва, будто ничто иное вокруг не имело особого значения — хотя во многом так оно и обстояло. Между тем их оборона в комнате трещала по швам. Попытавшись понять, что происходит с Трибунским, Инсаров ненароком высунулся на линию огня: тотчас ударило в левую руку. Боли он не ощутил, но сразу понял, что ранен. Вопрос, насколько серьёзно…
Следователь упал на пол и вжался в него, как только мог. Он заметил, что стрелявшего в него бандита поразил Епифанцев — но не мог судить, убило ли это негодяя окончательно. Возможно, и убило: по крайней мере, тело пока оставалось недвижимым.
А в следующий миг Гумилёв, решительно пошедший в контратаку с «Кольтом» наперевес, сам рухнул у стены коридора. И вот тут Инсаров, отнюдь не склонный к потере духа в критических ситуациях, почти испытал отчаяние.
Не из-за судьбы русской литературы, само собой. Об этом можно поразмыслить и позже: а вот что делать без самого осведомлённого в происходящем человека, без одного из лучших здесь стрелков, а главное — без «Кольта»…
Увы, но поэт выглядел не раненным: совершенно мёртвым, и растекающаяся под ним тёмная лужа на что-то хорошее отнюдь не указывала. Легко узнаваемый голос Дорошенко всё ещё был слышен, но как-то не придавал уверенности. Епифанцев перезаряжал пистолет, Трибунский пытался вытащить Инсарова из-под огня. За тем, как к полицейским приближался вооружённый короткой винтовкой налётчик — неторопливо, с полной уверенностью в каждом движении, сыщик наблюдал уже как-то отстранённо.
В этой фигуре, лица на которой было не разглядеть, виделось нечто по-настоящему страшное. Нет, не образ Эфраима. Всего лишь обычный человек с необычайным даром — имеющим известные пределы. Но бандит выглядел… непобедимым. Да, именно так Инсаров мог сказать.
Непобедимый человек. Наверняка ещё до роковой игры в карты заслуживший Георгиевский крест. Прошедший через войну много более страшную, чем все мистические приключения Петра Дмитриевича вместе взятые. Ствол его карабина совершал плавное движение, неумолимо направляясь в сторону следователя.
Обыкновенный злодей, который куда страшнее любой сверхъестественной твари. Инсаров как никогда ясно ощутил: всё зло в этом мире исходит от людей. Тёмные силы им лишь помогают, и то изредка.
А дальше… дальше за спиной бандита выросла уже знакомая фигура: высокая и немного нескладная, облачённая в гимнастёрку. Необыкновенно сочно прозвучал взводимый курок.
— Юра… — без всякого волнения произнёс воскресший Гумилёв. — Обернись: я не хочу стрелять тебе в спину.
Ах, стоило догадаться!
Инсаров представил сокращённую «немецкую» колоду. Семёрка, восьмёрка, девятка, десятка, валет, дама, король. Туз уже выбыл, но это — семь карт. Очевидно, что и игроков за столом оставалось семеро, а уж кого из них не хватало в банде — совершенно ясно. Гумилёв не сказал о том прямо, ловко поведал историю без особого упоминания себя; но ведь Инсаров и не спрашивал. Слишком увлёкся.
Яркие лучи света пробились сквозь прорехи в одежде бандита, на краткое мгновение озарили пол, стены и потолок. Они показались даже из ушей. Аба-Муда не был когда-то столь же рассеянным, как глубоко впечатлённый поэт, и ничего важного сказать не забыл. Прекрасно работал «Кольт» и с обыкновенными пулями.
Да это ведь и логично. Сколько волшебных патронов пришлось бы тем двум братьям из Америки извести… как много лет колесили они по стране, борясь с нечистью, пока «Кольт» не угодил в Африку?
Дальнейшие события Пётр Дмитриевич Инсаров запомнил смутно — из-за собственного ранения. Которое, по счастью, оказалось куда более лёгким, чем он в тот момент думал.
Глава одиннадцатая: она же эпилог
Некоторые обстоятельства дела «банды бессмертных» стали известны вашему скромному рассказчику не от Петра Дмитриевича Инсарова и не от его сослуживцев. Подробности эти, касающиеся встречи Николая Гумилёва с Григорием (что имела место незадолго до знакомства со следователем), были изложены в записях самого поэта.
К сожалению, после Революции дневники оказались утрачены. Возможно, они осели в архивах НКВД или были сожжены Ахматовой — как знать?.. Не спрашивайте, каким образом с содержанием бумаг мне всё-таки удалось ознакомиться: каждый автор имеет право умолчать о чём-то. Описание встречи приводится здесь без каких-либо изменений или сокращений.
«Гриша приходил ко мне, и выглядел он жалко. Определённо, сильно запил — и я поначалу будто бы догадался, отчего именно. Увы, правда оказалась куда хуже. Было страшным ударом узнать, до чего друзья мои дошли, ведомые не то каким-то проклятием Эфраима, не то простым разочарованием. Осознанием бессмысленности всех идеалов и принципов, ради которых сражались. Ведь они слишком многое знали наперёд, с того самого дня…
Мне кажется, некую роль играли оба обстоятельства. Возможно, самого меня от подобного уберёг лишь Аба-Муда? Я не знаю.
— Они-то думают сыграть ещё раз. — говорил мне Гриша. — Рассчитывают снова найти Эфраима. Да полагают, что и ты для новой партии потребен…
— Пусть приходят, скажу одно: в такие игры больше не играю. А там уж будь что будет.
— Вот и я играть не хочу. Ни в карты, ни… во всё это. Страшно, чего со мною стало: уже жалею, что туза тогда не вытащил. Всё, Николаша, для меня отныне бестолковое… Воевали мы с тобой, крестики нам за это повесили на мундиры: красивые — загляденье. Только что с этих крестиков? На которое место через год их друг другу повесим? Вот и выйдет почти по присказке: грудь в крестах, а голова в кустах. Изменить-то ничего невозможно, будь мы с тобою хоть сто раз герои. Думал я, что должно иную жизнь выбрать. Удальцов этих наслушался, поверил… ошибался, как теперь понимаю. Нынче мне и вперёд идти тошно, и отступать уже некуда.
Я хотел помочь Грише. И мне даже казалось, что я сумею ему помочь. Так и сказал старому другу: я ведь не простой прапорщик, у меня есть друзья, есть определённое влияние. Многое для него можно устроить. Рассказать всем, как Гриша сражался за Отечество, как добыл он свой Георгиевский крест… обычное ребячество, конечно. Романтизм. Гриша вернее моего рассуждал:
— Ну-ну. А заодно расскажи своим друзьям про мои петроградские подвиги, вот уж это оценят по высшему разряду… глупости всё, спета моя песенка. Скоро последнюю жизнь разменяю — и довольно. Не помощи прошу… и уж точно не жалости. Тебя, Николаша, желаю уберечь…
И больно мне за него было, и как-то противно. Не с такими людьми дружил я на фронте, не с такими садился за проклятый карточный стол. Лица прежние, имена тоже — но люди уже другие. Безнадёжно.»
Так всё и было, если верить Николаю Степановичу. Что же касательно последнего его разговора с Инсаровым, состоявшегося на следующий день — тот вышел очень коротким.
— А вы, оказывается, немногим рисковали. — колко заметил Пётр Дмитриевич.
— Полагаете? Что ж, знайте: мне в тот день, за столом Эфраима Фаланда, выпала семёрка. Всего одна лишняя попытка прожить правильную жизнь, и вчера я её потратил. Невзирая на это обстоятельство, собираюсь вернуться на фронт, и уже очень скоро.
— Будем надеяться, Николай Степанович, что с пулей или штыком вы больше не встретитесь.
Улыбка, в которой искривилось лицо поэта, была саркастической. Следователь понял: Гумилёв прекрасно знает не только судьбу России, но и свою собственную тоже. И ему загадочный Фаланд нагадал…