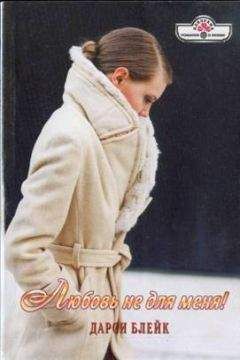Сергей Лексутов - Ефрейтор Икс
Место, на котором стояла рота, было красивым; невысокая плосковерхая овальная возвышенность километра полтора длиной и метров восемьсот шириной. Она была окружена глубоченными провалами в земле, в которых почему-то не скапливались вешние воды. Потом Павел узнал, что это провалы над осевшими шахтными выработками. В километре от проволоки с одной стороны раскинулся большой шахтерский поселок, оживленное шоссе проходило с другой стороны, отделенное от расположения несколькими рядами тополей. Сборное щитовое строение казармы, продуваемое всеми ветрами, рядом – второе такое же строение, с учебным классом радистов и крошечным спортзалом, в котором стояла перекладина и имелась штанга с кривым грифом. За казармой стоял склад, как две капли воды похожий на казарму, за ним – хоздвор. Свинарник и коровник. Свиней взвод и коров две. Потом выяснилось, что они и молоко иногда давали, если в роте находился кто-нибудь, кто умел доить.
На второй день по прибытии Павла назначили в наряд патрульным. В паре с ним оказался "старик" из весеннего призыва. Имени его Павел не помнил, совершенно бесцветная личность. В этой роте со "стариками" явно не церемонились. На кухне отбывал пятисуточный наряд радист, который проспал сообщение из полка, что в роту направляются два новобранца, и их требуется встретить.
Напарник Павла оглядел его с ног до головы, сказал:
– У нас тут патрульные стоят по двенадцать часов. Только надо каждые четыре часа в книге расписываться. Если ты против – давай, как положено по уставу, по четыре часа… Только, я тебе скажу, двенадцать часов легче отстоять, а потом спокойно выспаться, чем мариноваться по четыре… Так что, выбирай; либо с девяти вечера, до девяти утра, либо с девяти утра до девяти вечера.
Павел пожал плечами, проговорил:
– Мне все равно…
– Ну, тогда стой первым. Только учти, сегодня оперативным замполит, а он любит часовых снимать. Подкрадется, и если ты его не окликнешь, отберет карабин – и пять суток на кухню…
Павел впервые наблюдал жизнь роты как бы со стороны, с вышки. Перед отбоем, в десять часов, рота вышла на прогулку. Двадцать человек с песнями, строем ходили туда-сюда по дороге, ведущей от ворот к гаражу, это не впечатляло. Наконец, гурьбой ушли в казарму. Стало тихо, мела теплая метелица, бросая в лицо горсточки мягких, теплых снежинок. Павел бродил по дорожкам; от КП к хоздвору и обратно. Иногда поднимался на вышку и осматривал белое пространство под серым мутным небом. Павлу было хорошо, как-то по-особому грустно, но не тоскливо. Он о чем-то мечтал, что-то вспоминал, хорошее и теплое. Оказалось, что двенадцать часов стоять в патруле гораздо легче, чем по четыре часа, как он стоял в полку. Это был сущий кошмар. До того он считал, что стоять на посту придется по четыре часа, потом четыре спокойно спать – не тут-то было! Они приехали из "учебки", пока ехали, поспать в поезде не удалось. Только приехали, их тут же сунули в суточный наряд. Оказывается, на посту стоишь только два часа, потом два часа числишься свободной сменой, то есть драишь полы, и уже потом становишься отдыхающей сменой. То есть, можешь вздремнуть два часа. Павел на гражданке днем спать не мог и урывками тоже, ему всегда было трудно заснуть, и в армии организм нисколько не перестроился. Пока он ворочался в духоте помещения для отдыха, кто-то уже ворвался в полумрак, и истошно заорал: – "Отдыхающая смена, подъе-ем!!" А днем спать отдыхающей смене почему-то не полагалось. Последние два часа наряда, Павел простоял у калитки в заборе, огораживавшим караульное помещение. Боже, как медленно тянулись эти два часа! Ноги его уже не держали, глаза немилосердно резало. Он не мог смотреть, не мог и закрыть их. Не дай Бог прозевать дежурного по расположению! Он изредка поглядывал на часы. Ему казалось, прошло уже не менее десяти минут, а минутная стрелка еле-еле протащилась два круга.
Павлу казалось, эти сутки никогда не кончатся. К тому же, перед самой сменой, когда пришедшие с постов разряжали оружие, сержант, сам, видимо, плохо разбирающийся в оружии, проглядел, как один из солдат нечаянно дослал патрон в патронник. Хлестнул выстрел. Тут же прибежал дежурный по расположению. Разбирательство длилось до одиннадцати часов, наряд не меняли до тех пор, пока виновные и свидетели не написали рапорта. Когда Павел добрался до койки, ему казалось, что он мгновенно уснет, но не тут-то было! Он часа два ворочался на скрипучей койке, потом уснул, но то и дело просыпался оттого, что ему чудилось, будто срывается в какую-то яму. А часов в пять утра, все койки в казарме дружно заскрипели. Только здесь, в полковой казарме, Павел встречал это явление; несколько человек, отчего-то проснувшись, отчаянно пытаясь снова заснуть, начинали ворочаться, скрип коек, будил соседей, те в свою очередь начинали ворочаться, и поднимался такой скрип, будто с каждым солдатом на койке лежала его верная подружка, и ублажала самым самозабвенным образом. И это бывало каждую ночь.
Павлу немного подпортило настроение появление старшего сержанта Харрасова, пролезшего сквозь проволочное заграждение у ворот. Павел знал, что это он, потому как дежурный по роте его предупредил, что Харрасов в самоволке. Однако, как и положено, Павел его окликнул:
– Стой! Кто идет?
В ответ он услышал бессвязную фразу, в которой слово "салага" чередовалось с самыми мерзейшими словами, привнесенными в русский язык, как поговаривают специалисты, из татарского. Вот только Харрасов был не из тех татар, которые Русь завоевали, он был из волжских, которых татары резали гораздо раньше, но не дорезали. Вернее, хороших людей перерезали, оставили на развод лишь такое дерьмо, как Харрасов.
Павел отошел к самому краю дороги, и проводил Харрасова взглядом. Того мотало по всей дороге, от обочины к обочине.
Однако метелица быстро выдула из души Павла муть от этой встречи. Снова стало хорошо от светлой грусти, от свежих снежинок на губах. Он не сразу заметил маячившую у ворот фигурку. Когда подошел, разглядел, что это довольно миловидная девушка, несмотря на бесформенное пальто и старушечью шаль. Закругленное внизу плавным овалом лицо было в капельках воды от растаявших снежинок. Снежинки дрожали и на ресницах. В свете далекого фонаря глаза казались черными и полными слез. Павел ошеломленно смотрел на нее, и ему даже в голову не приходило спросить, что ей надо? Наоборот, в уме вертелось нечто романтическое.
– Позови Харрасова! – произнесла она требовательно.
Павел как будто только этого и ждал; повернувшись, зашагал к казарме, спиной чувствуя, что она смотрит ему вслед. Расчищенную вечером дорогу уже здорово перемело, перемело и дорожку вдоль фасада казармы, которая уже была обрамлена завалами снега метровой высоты. Валенки вязли в мягком снегу, и пока Павел добрался до крыльца, успел взопреть. Приоткрыв дверь, Павел сунул голову в щель, дневальным стоял Голынский, парень из предыдущего весеннего призыва. Судя по тому, в какой напряженной позе он застыл, он или сидел, или лежал на тумбочке. Лежать на ней можно было, длина ее была метра полтора.
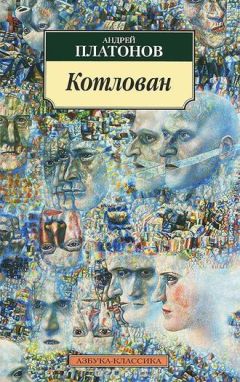
![Сергей Лексутов - Ефрейтор Икс [СИ]](/uploads/posts/books/99839/99839.jpg)