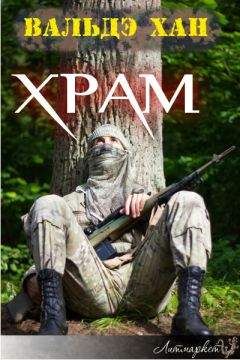Людмила Минич - Дети Хедина (антология)
«Я вижу Таню, Никит. Понимаешь? Не Лину, а Таню, и ничего не могу с собой поделать. Ты уверен, что…» «Она теперь другая. Такая… нежная со мной». «Да, я приду. Во сколько твой психолог меня ждет?»
Тайны Лины. Они вспыхивают шаровыми молниями и приносят с собой волны сухого обжигающего жара.
В третьем классе она украла у Маринки кошелек. Не из-за денег, ей нравился сам кошелек – пурпурный мешочек, расшитый бисером и лиловыми стразами. Лина спрятала его в коробку с игрушками, а затем ей стало стыдно. Маринку она обходила десятой дорогой и все мечтала незаметно подбросить кошелек обратно. А потом Марина перевелась в другую школу, и пурпурный мешочек пылился среди игрушек с полным табу на пользование.
В день своего семнадцатилетия она напилась до бесчувствия. На задворках сознания мелькает некий Лешка. Она не помнит, было у нее что-то с ним или нет. Кажется, все-таки нет.
Первое серьезное увлечение – Мишка Самойлов. Но через пару месяцев она застает его со своей подругой. Ей плохо. И очень долго. Плохо физически – она ничего не может жрать, дико болит позвоночник. Пропускает сессию. Потом все налаживается. Но следующее увлечение остается лишь увлечением, Лина больше никого не подпускает близко. Кроме Кеши…
Аркаша. Легкий укол в сердце, интерес, разговоры… Сильные руки, доброта во взгляде, ненавязчивое остроумие. И… феерический секс.
Иногда меня тошнит от Василининых тайн.
Жесты. Слова.
Иду по коридору, в дверях появляется Аркадий. Я прохожу мимо, поднимаю руку и чуть прихватываю его за пуговицу рубашки, отпускаю. Иду дальше, а он так и стоит на пороге, замерев.
Разливаю чай, задумавшись, брызгаю на запястье, приплясываю на месте и часто-часто дую на него. «Ах ты, дрючка-косоручка!» У Аркадия срывается нож с буханки и задевает палец.
Вяжу, встряхиваю головой, чтобы убрать волосы с лица… У меня короткая стрижка. После операции – тем более.
«Вот такие пироги», – я смеюсь и складываю ладони тюльпанчиком. Аркадий выбегает на улицу, «подышать свежим воздухом».
Разговоры.
– Да, сегодня денек тот еще. Маенко никак материал не сдаст. И у главного три часа в кабинете просидел без толку.
– Как там его пес поживает? Не спаниель, а дворняжка, что они подобрали. Почему ты так на меня смотришь? Ну, мы еще в гости к ним приезжали, а у него как раз собака…
Я контролировала Лину. Хотела верить, что контролирую. Я начала ее бояться. Лина жила во мне. Была она – мной или я – ею?
За окном падал снег. Прощальный подарок февраля. В гостиной мерцал экран телевизора, свет я приглушила, чтобы не резал глаза. Вязала. Аркадий перебирал распечатки материалов с очередной конференции. Тихое завершение спокойного дня.
– Чаю хочешь? – спросила я, откладывая спицы и потягиваясь.
– А ты хочешь? Я сделаю для тебя.
– Не надо, я сама. Тебе с бергамотом?
– С лимоном, – и добавил после паузы: – Спасибо.
– Не за что, cielito.
Я на мгновение задержалась, вслушиваясь в новое слово. Нет, оно не новое, оно… Аркадий встал.
– В кабинете посижу, – бросил он куда-то в пространство.
Знакомая волна горячего бриза обволокла с головы до ног, туманя сознание. С трудом соображая, что происходит, я побрела на кухню, щелкнула кнопкой чайника. Заварка, лимон… где этот лимон?.. Ага… чашки, ложки, тростниковый сахар…
Кабинет освещался одним бра на дальней стене. Я хотела включить побольше света, но Аркадий попросил оставить, как есть. Чашка с сахарницей перекочевали с подноса на подставку возле рабочего стола.
– Еще что-нибудь принести? Конфеток?
– Ничего не нужно, спасибо.
Я направилась с подносом к двери, через несколько шагов обернулась. Он сидел, крепко обхватив фарфоровую чашку и всматриваясь в лимонную дольку, будто в ее желтой корке скрывались тайны Вселенной.
Я улыбнулась.
– Кешка, ты такой смешной.
Он повернулся, чашка в его ладонях, казалось, сейчас лопнет. Я посмотрела ему в глаза и вдруг захлебнулась слезами.
– Mi cielo[28]… – прошептала я, падая на колени. – Mi cielo… Кешка…
Фарфор впечатался в стену, разлетаясь на тысячи осколков, чай плеснулся на темный ковролин. Аркаша кинулся ко мне, и поднос тоже загремел на пол, вырванный из рук.
– Линка…
Он обнимал меня, как последний раз, сжимая до потери дыхания.
– Линка!
Его губы в порыве безумия целовали мой лоб, нос, щеки, ресницы, подбородок и находили мои, дрожащие и изнемогающие. Cielito!.. А руки уже искали пуговицы рубашки и, не в силах ждать, рвали податливую ткань.
В эту ночь мы были вдвоем. Я и он. Я только не знаю, где была Таня…
С той ночи он начал называть меня по имени.
С той ночи я перестала понимать, кто я есть.
Я смотрела на все двойной парой глаз. Делала все двойной парой рук. Я считала себя Таней, я уверяла себя, что я – Василина. Никита с психиатром, похоже, были в восторге.
С той ночи я начала часто плакать.
Он любил меня. Жаль, не ясно, кого-меня?
Отзываться на имя оказалось приятно. Ли-на… В устах любимого имя всегда звучит слаще. И вечера теперь тоже стали приятными. Мы много разговаривали, много вспоминали… «Деевы? Друзья твоего двоюродного брата? Да, конечно, я помню их», «Мальдивы… ах, ты помнишь, как я утопила в море свою сережку?», «Кот? Разумеется, я помню этого рыжего мерзавца, изодравшего мою новую юбку».
Помнишь?.. Помнишь?.. Помнишь?.. Я помню… помню… помню.
Когда он уходил на работу, я рыдала.
Кто ты, Татьяна Андроникова? Кто ты, Василина Ильичева? Кто ты, невеста Франкенштейна?
Вечерело. Я стояла у окна. Ветер задувал в открытую форточку лепестки цветущих вишен и яблонь. Облака наливались синевой, торопились, летели на невидимый мне пожар. Близилась гроза.
Но мог ли дождь остудить пылающий жар в голове?
Вчерашний разговор (да, я снова подслушивала) поставил точку в далеко зашедшем эксперименте.
«Я сам схожу с ума, Никит. Я изменяю ей… с памятью о ней».
Ненавижу! Ненавижу тебя! Ты забрала его у меня! Господи, кто это кричит я-Таня или я-Лина? Не важно… мелочи… Я ненавижу эту безумную безымянную чужачку – себя. Избавиться хотя бы от одной, не важно – какой.
* * *Свет круглых ламп невыносим. Очень, очень ярко. Прозрачная маска притаилась в руках мужчины с зеленой повязкой на лице. Как же нелегко убеждать Никиту. Как же сволочно я поступаю с Аркадием.
Но я не хочу больше этого диафильма. Я хочу умереть на операционном столе.
Жаль, Никита слишком хороший хирург, чтобы позволить мне это сделать.
Наталья Колесова
Дом
– Гасси, Гасси…
Маленькие пальчики дергали за простынь, тянули за волосы, щипали…
– Гасси! Гасси!
Она со стоном перевернулась на спину.
– Ну, Гасси я, Гасси… Что вам от меня надо?
Мохначи возбужденно прыгали по постели и по полу, хватали за руки, пытаясь стащить ее с кровати. Бормоча невнятные ругательства, Гасси села и с ненавистью уставилась в темноту.
– Если там еще один щенок, клянусь, утоплю его собственными руками!
Растрепанная, всклокоченная, босая, в одной ночной рубашке, она дошагала до кухни и рывком распахнула дверь.
Щенка не было. Вместо него на крыльце дома лежал человек. Когда дверь открылась, голова его тупо стукнула о порог – можно было понять это и как вежливое пожелание войти.
Гасси посмотрела направо, налево. Стояла глубокая ночь, город давно спал, стих даже шум близкой стройки. Гасси посмотрела наверх. Наверху было сито звезд, полная луна и сидящий на козырьке крыши филин.
– Ну-ну, – сказала Гасси. – Если это твои шуточки, ушастый, я тебе шею сверну!
– Угу, – принял к сведению филин и, распахнув крылья, взмыл в небо, на мгновение заслонив луну. Гасси включила тусклый наддверный фонарь, присела рядом с лежащим, осторожно толкнула его в плечо. Человек послушно перевернулся на спину – и она его узнала.
Все оказалось еще хуже, чем казалось. Гасси села на пятки и с тихой яростью оглядела темный двор.
– Ну, только узнаю, кто!..
Оставалась надежда, что она не сумеет затащить такого крупного мужчину в дом. Мохначи лишили ее и этого – вцепились в рубашку и брюки лежащего, волоча его так целеустремленно и стремительно, что ей оставалось только поддерживать ему голову. Они даже втянули его на кушетку и принялись деловито подтаскивать подушки и пледы, пока Гасси, сморщившись, не замахала руками, разгоняя их, как надоедливых мух.
– Все-все, хватит, спасибо! Спасибо всем, кто помог вырыть для меня глубокую могилу!
Гасси, выпрямившись, уперлась руками в бока и уставилась на Стивена Уокена. Даже сейчас, в далеко не лучшем своем виде – пыльный, бледный, с запекшейся кровью на левом виске, – он выглядел как воплощение грез многих юных дев…
И не очень юных.
Чтоб он сдох.
Что он, кстати, вполне мог успеть. Гасси дотронулась до влажной кожи и, к своему сожалению, почувствовала слабо пульсирующую жилку. Повернулась к рассевшимся кругом, как в цирке, мохначам: