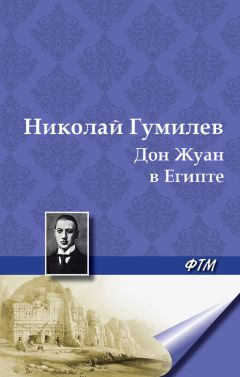Дмитрий Манасыпов - Охотник за головами
За Халифатом, как известно вам, людям несомненно ученым, раскинулась страна хинну, ими самими называемая Сунь… да не Вынь, охламон ты безграмотный, а… Что значит ребенка обидел, матрона помещица? Да вашему ребенку скоро к лекарю али травнику хорошему идти придется, оглобле здоровой. Залечивать вон то, чего у него точно не только на лице выскочило, ага… да-да, господин аббат, ему, небось, и по-маленькому ходить неприятно, чать, визжит, как порось, когда того режут. От и правильно, нечего таким сквернавцам промеж здоровых людей делать. У меня? Да это язва от прута, которым мне язычники сунские глаз выжечь хотели, матрона, а не то что у вашего дитятки.
А за страной Сунь, которая высокой стеной вся обнесена, лежит бескрайняя Степь. Кого в ней только нет, и зверей всяких, и лошадников диких, приученных скакать подряд дней десять. Как, говорите, сударь рыцарь? Ну, как… знамо дело – перевесится с седла, штаны снимет, и все. Ну, на лошадь, так на лошадь, оттого они все и воняют зело, как нужник невычищенный. А сколь их там? Да тьма-тьмущая, благослови, Пресвятая и Непогрешимая, Белозерье, что грудью воинов своих закрывает страны наши. Ох и тяжко же им приходится, думаецца мне. Оттого и люди там живут, как говорил, храбрые да честные друг к другу…
Пусть решает мир
Год 1385-й от смерти Мученика,
граница южного Белозерья
и нессарской Жмути
1
Ночь. Бледно-мертвый свет полной луны мягко окутывал сном землю внизу. Снежную равнину, окаймленную чернеющим ельником по ее правому краю и все равно кажущуюся такой бесконечной. Здесь, на границе с постоянно не спящей в любое время года Степью, оно вроде как было и хорошо, безопаснее. Ровной, будто строчка швеи, тянулась через нее, ближе к острой гребенке бора, накатанная зимняя дорога. Сейчас, ночью, пустующая. Хотя… Как сказать, особенно присмотревшись. Вроде и виднелись на ней открытые деревенские сани-розвальни, стоящие почти посередине. И еще одни, стоявшие им встречь. А все равно, казалась равнина неживой, бездыханной, без тепла и жизни. Холодно, звездно и пусто. Снег хрустел под ногами людей, наплевавших на уют, которым манили несколько столбиков дымков почти у самого горизонта, откуда, видно, и приехали.
Вечером валило, не очень сильно, но снег-то был чистым и новым. Похрустывал под ногами, сверкал блестками отраженного лунного света. Снег, бывший еще вот-вот таким белым-белым, при свете нескольких смолистых факелов казался черным. Взрыхленный широкими лапами, он, если опустить огонь ниже и присмотреться, становился красным, как поздняя рябина, трескучая и горькая. А если попробовать его на вкус, то оказался бы соленым. Вкуса крови, которой в избытке пролилось вокруг.
– Волколаки, Мишло, свят-свят, посмотри, как есть волколаки подрали… – Невысокий, седой, как лунь, суетливый дед подпрыгивал на снегу. – Пресвятая Мать, защити и сохрани!
– Тьфу на тебя, куме. – Мишло, высокий и тучный, с некогда лихими, а сейчас грустно повисшими пандурскими усами, сплюнул темную табачную слюну. – С чего взял-от, на…а?
– А кому ж еще-то!.. – Седой подпрыгнул на месте. – Это ж хтой-то в санях? Гора это, зять кабатчика, что купчиной заделался. Он завсегда с пистолями доккенгармскими гонял-от, как купил тады, в ентот раз, так и гонял. Ну, помнишь ведь, когда вот этого приволок с собой, а?..
– Ну, на… мабуть, и помню, та и шо? – Мишло сплюнул еще раз. Зябко повел плечами под крытым богато вышитым сукном полушубком. Покосился на третьего спутника, молчавшего и отогнавшего их с кумом подальше.
– Неужто волки пистоля-то не убоятся? – Кум подпрыгнул, притоптывая от морозца. – Говорю тебе, волколаки. Так ведь, Освальд?
Третий, названный Освальдом, тем временем ползал на коленях вокруг саней, подсвечивая себе трескучим факелом и внимательно что-то рассматривая. На вопрос седого он никак не отозвался. Невнятно лишь мотнул головой, накрытой заячьим треухом, и продолжил ползать. Нагнулся еще ниже, встав на колено и посветив себе факелом.
– И чего ползает, чего, на…?!! – Мишло ругнулся, сморкнулся в пальцы и покрепче затянулся резной люлькой, пыхающей душистым табаком с басурманского востока. – Вот у нас на Полони и в Жмути волколаков-то всех давно повывели, и то… Никто и никогда следа их взять не мог, а уж какие охотники были!!! Не чета вам, белопузым, на… Чего говорить про колбасников-от, да? У нас-то, слышь, чего говорю, куме, самого Волчьего пана смогли ухайдакать, на…
– Кого? – Кум непонимающе посмотрел на усача.
– Кого-кого, пустая твоя башка… – пандур сердито засопел. – Волчьего пана, самого! А это такой змагар знатный был, что куда там вашим белозерским волхвам да колдунам. И ничего, поймали… Никуда не делся от пандуров!
Освальд, ползающий по снегу, только ухмыльнулся на слова бывшего вольного рубаки и хмыкнул. Постоянные споры этих двоих стали давно привычны. Кум тот вообще ничего не сказал, замерзая все больше и больше. Мишло покосился на него, но стал, как обычно, спорить о том, кто всяко важнее и пышнее: белозерцы или их соседи с нессарской Жмути.
Охотника в данный момент это совсем не интересовало. Важнее был снег, кровь и разорванный в клочья человек, не так уж давно спасший его самого. Долги свои Освальд отдавал всегда. Особенно те, что могли оплачиваться кровью. Жизнь у молодого купца Егорши-Горы отобрали страшно и жестоко, и спускать это кому-то с рук охотник не собирался. Не на того напали, кто бы там ни был. Оборотни, а по местному волколаки?..
Хм, все возможно. Про Волчьи Овраги забыть было сложно, и не только из-за чистых и красивых глаз Агнесс де Брие. Кто знает, не случилось ли и здесь, на границе Белоземья и крайних земель Нессара, что-то похожее? Но следы, освещаемые неярким светом факела, оказывались лишь звериными. И немного странными, что-то в них настораживало.
– Холодно, н-н-а… – Мишло сел на край розвальней. Засунул лапищу за пазуху, покопался. Достал металлическую, в дорогом чехольчике из шагрени, фляжку-непроливайку. Открутил колпачок, размашисто махнул себя крестом Мученика и приложился. Выдохнул, занюхав мокрым от снега рукавом, протянул куму. – На, Дрозд, выпей за упокой души. Хороший парнишка был, знатный вышел бы пандур…[10]
Седой, названный Дроздом, дернул рукой, косясь на черный снег под ногами. Взял протянутую фляжку, отхлебнул. Протянул было охотнику, но тот отмахнулся, не мешай, мол, не до того.
Со стороны дымков от села, находившегося за холмом, накатило криками. Мелькали, приближаясь, огни. Уже стало слышно различимые вопли, свет от фонарей и факелов из слитного пятна разбился на десяток поменьше. Сельчане, за которыми Дрозд отправил бывшего с ними деревенского мальчишку-дурачка, наконец-таки спохватились. Впереди, вскочив на облучок саней с доброй тройкой под упряжью, в распахнутом на груди тулупе, летел крепкий еще мужик, с густой окладистой бородой. Остановился, полозьями розвальней выбив волну снега и твердого наста, переваливаясь по-медвежьи, бросился к тем троим, что оказались первыми.
– Егорша! Егорша!!! – Остановился, запнувшись об ужас, мгновенно схвативший его и пережавший воздух в груди, заставляя хватать его ртом. – Хосподи спаситель, да что ж это, люди добрые?!! Егоршаааа…
И разом бухнулся на колени, пополз к лежавшему сбоку от саней, околодевшему от замерзшей крови бревну из тулупа и того, что осталось от молодого и веселого парня. Кабатчик Желан, сельский церковный староста и богатей, со стуком бился головой о мертвое тело, выл, вцепившись пальцами в жидкие волосы на парившей без шапки голове. Охотник, которого Желан не жаловал, смотрел на него без осуждения. Зять, пусть и непутевый, но все ж таки муж единственной дочери, любивший ее до беспамятства, лежал на снегу. Мертвый, разорванный в клочья, как не реветь, не стыдясь не то что соседей, а и привезенного откуда-то с запада приблуду, еле вставшего на ноги?
Подъехали остальные селяне, с вилами, кольями и дубинами. У троих виднелись в руках поблескивающие наконечниками самострелы, старые, дедовские. Подбежали, дыша шумно и жарко, встали в круг, переминаясь с ноги на ногу, мяли в руках шапки. Молчали. Факелы трещали, шикали отлетавшими смоляными каплями, луна тихо катилась по темному звездному небу.
– Отойдите… – Освальд встал, отряхнул снег с колен, поправил поясной, широкий нож в серебре, так не вяжущийся со старым треухом и худеньким зипуном с чужого, того же Горы, плеча. – Не мешайте смотреть, а?
Селяне начали тесниться назад. Кабатчик поднял злое, дикое, с перекошенным ртом лицом:
– Што ты смотреть хочешь, што?!! Какие-такие следы, ты… приблуда незнаемая!!! Кто такой, штоб нам указывать? Не твое это дело, не знаешь ты ничего, не знаешь! – Желан заметно багровел даже при свете факелов. Обернулся к селянам, обвел глазами. – Зато мы ж, кумовья, знаем, так?!! Так!.. Это ж все она, Парашка, сучье вымя, ведьма треклятая, она оборотней навела… Меня извести хотела, меня!!! А я Горку-то послал, потому как барин заехать должон послезавтра поутру. А у меня мальвазея-то кончилась, земляки, ни капелюшки не осталось, грешен, выдул сам с попом. Вот и отправил его вместо себя, а она того и не знала. За мужа своего, колдуна, мстит. До сих пор не забыла, что мы с вами, мужики, его отдали отцу-ключарю с солдатами, когда скот потравили… Да что там говорить, кумовья?!! Помните ведь, помните…