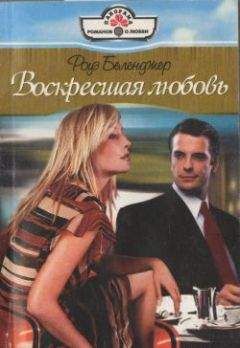Дмитрий Глуховский - Будущее
- Ничем более ценным я и не владею, – смеется он. – Александрина, приготовишь нам коктейли?
Конечно, это знак особого внимания, как и то, что Шрадер попросил свою жену встретить меня. Внимания, которого я не заслужил – и не уверен, что хочу заслуживать. Я вообще противник жизни в кредит. Приобретаешь нечто, что тебе принадлежать не должно, и расплачиваешься тем, что больше не принадлежишь сам себе. Идиотская концепция.
Потом берут кредит, чтобы погасить кредит, взятый раньше. В мире, где все бесконечно перекредитовываются, уже непонятно, кто – чья собственность. Все заложено и перезаложено сотню раз. А с моей службой хочется хоть иногда чувствовать, что я сам себе хозяин. Поэтому я плачу по счетам сразу. Если не в состоянии расплатиться, значит, не покупаю. И дружбу министра я себе позволить однозначно не могу.
Однако я послушно следую за гостеприимным Шрадером, и не только из вежливости и соображений субординации. Тут больше любопытство: мне раньше никогда не приходилось бывать на крышах.
Резиденция министра – тропический остров, что-то около километра в сечении, почти целиком захваченный одичавшим садом. Фруктовые деревья и пальмы, неизвестные мне кусты с огромными сочными листьями, мягкая ярко-зеленая трава – несомненно, живая – по которой проложены настилы дорожек, уводящих в чащу, к просторному деревянному бунгало. Через дом я сюда и попал. Конечно, неплотно пригнанные и вытертые мореные доски пола и ленивые латунные вентиляторы под потолком, колониальная темно-коричневая мебель и отполированные пальцами дверные ручки – все это стилизация. На самом деле начинка у дома – сверхсовременная, и лифт находится именно тут, в прохладной сумеречной прихожей.
Остров геометрически идеален – это выверенный круг. Ровная кайма пляжа окольцовывает его. Когда министр выводит меня сюда, моя выдержка меня предает. Я нагибаюсь, зачерпываю горсть мельчайшего, нежного белого песка. Можно было бы подумать, что мы на атолле, затерянном где-нибудь в океанском безбрежии, если бы вместо пенистой водной кромки пляж не заканчивался прозрачной стеной. За ней – обрыв, а дальше, в десятке метров внизу – облака. Почти незаметная уже с нескольких шагов, стена поднимается вверх и превращается в огромный купол, накрывающий остров целиком.
- Как вы видите, облака остаются внизу, – говорит министр. – Поэтому тут хорошо загорать.
Я растираю на ладони песчинки, смотрю на небо, стараясь, чтобы мои глаза оставались стеклянными и не выдавали меня. Странное чувство. Когда смотришь вверх снизу, кажется: если поднимешься на крыши, станешь ближе к небу, ощутимому и плотному. А поднявшись, выясняешь, что оно недостижимо.
Над клубящимся облачным морем, которое расстилается вокруг, парят сотни летучих островов – крыши других башен. Большинство превращено в сады, согласно моде. Видимо, проживая на небесах, их обитатели все же скучают по земле.
- Ну, как вам у нас? – покровительственно улыбается он.
- Похоже на огромные песочные часы, – я улыбаюсь в ответ, просеивая белые крупинки и жмурясь на солнце, которое висит в зените, точно над стеклянным куполом.
- Вижу, для вас время все еще течет, – он глядит на струящийся меж моих пальцев песок. – Для нас-то оно давно остановилось.
- Коктейли, - слышу я голос Александрины.
Моя ладонь пустеет. Я отряхиваю руку о штаны и разгибаюсь.
- У вас тут настоящая утопия, - признаюсь я.
- Вся Европа – настоящая утопия, - разводит руками Шрадер. – Вы следите за новостями из России?
- Я, к сожалению, довольно занят по службе, так что… – отвечаю я (ища глазами свое отражение в ее черных очках)
- Один из моих знакомых, физик, убежден, что человеческое счастье – такое же нарушение естественного природного равновесия, как и несчастье. Что счастливых и несчастных людей в мире должно быть одинаково – по тому же принципу, что на каждую частицу материи во Вселенной приходится частица антиматерии; иначе невозможен баланс мироздания, иначе невозможен покой системы. Он говорит, что есть народы, которые своими бедами платят за процветание других народов. И русские своей нескончаемой антиутопией платят за нашу многовековую утопию, хе-хе…
В моей системе координат русских не существует. Но то, что каждая минута чьего-то блаженства оплачена минутой чьего-то страдания – факт. Я сам работаю кассиром.
- У каждой утопии есть задворки, - говорю я ему.
- О да, охотно верю, - смеется он. – Но министрам показывают только фасады.
Я молчу, пропуская ход.
Смотрю на небо: вживую оно не слишком отличается от того, что показывают на потолочных проекциях во внутренних помещениях башен. Конечно, ты знаешь, что видишь над собой просто проекцию, что настоящее небо над головой – слишком ценный ресурс, что оригинал достается лишь тем, кто способен за него платить, а остальным положена реплика… Ну и что. Подлинник Гойи или Пикассо стараются заполучить единицы, миллионам достаточно иметь репродукцию, миллиарды вообще не испытывают ни малейшей потребности ни в одном, ни в другом, десятки миллиардов даже не знают о существовании обоих. Так и небо.
И все же оно гипнотизирует.
- О чем вы думаете? – тормошит он меня.
- Пытаюсь понять, зачем вы меня вызвали.
- Вызвал! Послушай, Александрина, а? Я вас пригласил. Пригласил познакомиться.
- Зачем?
- Из любопытства. Мне интересны такие люди, как вы.
- Таких людей, как я, сто двадцать миллиардов в одной Европе. Вы принимаете по одному в день? Я понимаю, что вы не ограничены во времени, и все же…
Александрина втягивает коктейль через трубочку, переливающуюся разными цветами. Выпускает ее, прикусывает нижнюю губу.
- Меня восхищает ваша несгибаемость, - говорит Шрадер. – Мы получаем отчеты обо всех операциях, которые проводят Бессмертные. Вы неизменно предстаете героем.
- Героизмом это точно назвать нельзя, - возражаю я.
Александрина чуть заметно кивает.
- Герой – тот, кто беззаветно служит обществу, для кого интересы Европы значат больше, чем собственная жизнь.
- А в новостях вы всегда называете Бессмертных погромщиками, с которыми пора покончить.
- Но на деле мы же даем вам полный карт-бланш!
- И объявляете, что Бессмертные совершенно неуправляемы.
- Вы же понимаете… Наше государство основано на принципах гуманности! Право каждого на жизнь свято, как и право на бессмертие! Европа отказалась от смертной казни столетия назад, и мы никогда не вернемся к ней ни под каким предлогом!
- А вот теперь я снова узнаю того другого вас, из новостей.
- Я не думал, что вы так наивны. С вашей работой…
Александрина, кажется, потеряв интерес к нашему разговору, передвигает шезлонг, чтобы догнать уползающее солнце, и разворачивает его к нам спиной. Отчего-то меня это злит.
- Я вовсе не наивен. Просто – с нашей работой – часто хочется поговорить с людьми из новостей, которые макают нас в дерьмо. И вот – редкий случай.
Шрадер смотрит на меня изучающе, долго. Улыбка отклеилась и слетела с его губ, и на какой-то миг он забывает надеть на свое красивое лицо другое выражение. Долю секунды я вижу его настоящим – пустым. Потом он хмурится.
- Ладно. Вы же штурмовик, а не дипломат. Нечего ждать от вас реверансов.
- Это именно то, чего я прошу. Перейти от ритуальных танцев к делу.
- Идите к черту! Я действительно вас ценю. Вы же прекрасно понимаете, в чем дело: то, чем занимаются Бессмертные, необходимо обществу. Необходимо государству. Но открыто поддерживать ваши меры мы не можем. Потому что они…
- Варварские. В новостях вы так говорите.
- Слишком неоднозначные. Для общественного мнения. Пока. Мы готовим его… Постепенно… Но…
- Господин министр, - я ставлю пустой бокал на столик. – Я варвар и я штурмовик. Я не понимаю, как здесь оказался. Тут у вас рай, а меня, по всем прикидкам, в рай пустить не должны.
- В вашем файле говорится, что вы не верите в бога.
- У вас там есть полный список всего, во что я не верю? Не думаю, что вам хватило терпения дочитать его до конца.
- Вас рекомендовали к повышению, - вдруг обрывает меня он. – Предлагают сделать вас командиром звена. Перевести под ваше начало десять бригад. Я хотел провести личное собеседование, прежде чем одобрить назначение.
Тут я наконец затыкаюсь. Потом подбираю свой бокал, взбалтываю подтаявший лед и опрокидываю содержимое в себя.
- Уверен, что я произвел отличное впечатление.
- Вы произвели впечатление человека грубого, излишне прямого и несклонного к компромиссам, - говорит министр.
- Я могу идти?
- Но первое впечатление может быть обманчиво.
Александрина снимает шляпу, бросает ее в траву как фрисби. На секунду я вижу прядь ее волос – медовую, тяжелую – она показывается из-за спинки шезлонга.