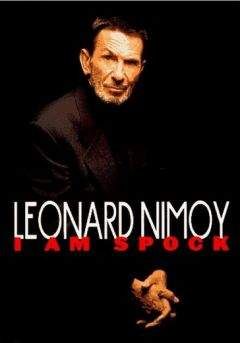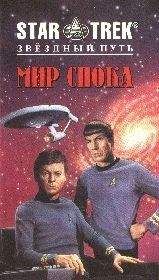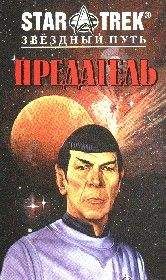Роман Глушков - Ярость Антея
– И о чем разумная мантия вас информирует? – спрашиваю я.
– А почему вы решили, что она сигнализирует именно мне? – округляет глаза Лев Карлович.
– А кому еще? – в свою очередь, удивляюсь я. – Не нам же, верно? Мы, в отличие от вас, с Душой Антея отродясь не заигрывали и общения с ней не искали.
– Ваши домыслы, Тихон, абсолютно необъективны, – возмущается академик, – потому что, кроме меня, среди нас есть еще один человек, способный расслышать сигналы Mantus sapiens. Готов поспорить на что угодно – он забеспокоился именно по этой причине!
– Матерь Божья! – ошарашенно восклицаю я и, обернувшись, гляжу на удерживаемого Ольгой Эдика. И не я один. Все мы сейчас смотрим на него так, словно видим малолетнего художника впервые в жизни. Лишь Кленовская, кажется, не удивлена сделанному нами открытию. А может, и удивлена, но по ее хмурому, опухшему от слез лицу этого не определить.
Пауза затягивается почти на полминуты. За это время малыш так и не прекратил попыток освободиться от заботливой, но крепкой хватки своей опекунши. А мы наблюдаем за ним и раздумываем над выдвинутой Ефремовым гипотезой. Отнюдь не беспочвенной, надо отметить.
– Черта с два, профессор! – наконец высказывается Ольга, явно со зла понизив в звании светило мировой геологии. – Несете всякую ересь! Разве не понятно: мальчик просто до смерти напуган, вот и дергается! В конце концов, даже у такого спокойного ребенка, как Эдик, терпение не беспредельно. Посмотрела бы я на вас после того, как вы в таком нежном возрасте пережили бы нечто подобное!.. Тише, тише, малыш! Все в порядке, я с тобой! Не бойся, я никому не дам тебя обидеть, клянусь!
Эдик не унимается. На Ольгины успокоения он не реагирует, а продолжает вырываться и неотрывно глядеть на облако разумной мантии. А оно успело за это время видоизмениться из «лиры» в фигуру, похожую на греческую букву «лямбда». Какой смысл носят эти метаморфозы, Ефремов сказать затрудняется. Однако он полон решимости это выяснить и просит разрешения расчехлить флейту, которую умудрился бережно пронести через все наши злоключения.
– Дерзайте, Лев Карлович, – даю я ему «добро» на эксперимент, хотя сильно сомневаюсь, что нас обрадуют его результаты. – Только умоляю вас: поаккуратнее! Не хватало еще, чтобы случайный сбой в работе вашего оборудования разъярил наших врагов. Сами понимаете, уж лучше такой худой мир, чем добрая ссора.
Академик не заверяет меня, что все будет тип-топ. Но не потому что он в себе сомневается, – просто не желает тратить время на лишнюю болтовню. Он приступает к делу с не меньшим рвением, чем то, с каким Эдик борется сейчас за свою свободу. Активация флейты занимает у Ефремова совсем немного времени. После чего он усаживается рядом с ней на мост, вставляет в уши наушники и нацеливает прибор на продолжающее видоизменяться облако Mantus sapiens…
По прошествии еще трех минут, в течение которых оно превращается сначала из «лямбды» в «калач», а из него – в «штопор», Лев Карлович докладывает нам о первых результатах своего исследования. В них, как и прогнозировалось, нет ничего утешительного. Хотя откровенной угрозы тоже вроде бы не звучит. Больше похоже на то, что Душа Антея констатирует один и тот же факт, поскольку предчувствия не обманывают Ефремова: учуянный им сигнал действительно короток и раз за разом повторяется.
– Затрудняюсь расшифровать это доподлинно, но по смыслу больше походит на… «настало время» или «пришла пора», – говорит геолог, продолжая вслушиваться во вражеское послание. – Да, пожалуй, я уверен. А если и ошибаюсь, то ненамного.
– И кому из нас все-таки адресовано это обращение? – интересуюсь я.
– В языке Mantus sapiens нет такого понятия, как обращение или вопрос, – просветляет меня академик. – Да и языка как такового у нее тоже нет, ведь она ни с кем не общается. А есть некий, скажем так, единый информационный фон, создаваемый упорядоченными колебаниями наночастиц и исходящими от их скоплений инфразвуковыми волнами. В этот фон, как в общий котел, периодически поступают новые данные, которые легко декодировать, пока они, если опять же сравнивать с котлом, плавают на поверхности. И последней слитой туда информацией является именно «пришла пора». Единственное, в чем она отличается от прочих известных мне сигналов, это в том, что повторяется, будто «SOS». С таким явлением при исследовании разумной мантии я еще не сталкивался.
– Тогда как прикажете понимать вот это? – Я обвожу рукой выстроившуюся у нас на пути армию и продолжающее видоизменяться облако. – По-моему, не надо обладать ученой степенью, чтобы догадаться: эта компания явно чего-то от нас добивается.
– Могу предположить, что циклический непрерывный сигнал есть э-э-э… оповещение о том, что пославший его готов приступить к неким э-э-э… действиям. – Речь Льва Карловича сбивается. Он не говорит напрямую, что Душа Антея наконец-то трубит начало глобального окаменения, но подразумевает, несомненно, его.
– Или эта зараза может быть напоминанием, – вставляет Туков. – Что-то типа телефонного звонка для того, кто должен сделать нечто важное. Или, наоборот, не сделать.
– Например, сказать Финальное Слово! – осеняет меня. – Если, конечно, оно до сих пор не сказано.
Мы опять дружно оборачиваемся и смотрим на Эдика и Ольгу. Она слышит нашу беседу, но, будучи занятой успокоением ребенка, не принимает в ней участия. Однако, когда речь снова заходит о нем, Кленовская вмиг настораживается и начинает смотреть на нас глазами волчицы, готовой растерзать любого, кто только попробует покуситься на ее волчонка.
– Наш Эдик – Финальное Слово? – недоумевает Миша. – Но ведь он же всего-навсего маленький мальчик, да к тому же немой!
– Он – чересчур загадочный ребенок, который намного умнее своих лет и вдобавок способен предсказывать будущее, – замечает Ефремов. – К тому же Финальное Слово – это слишком опоэтизированная и упрощенная трактовка того явления, какому я ее присвоил. В действительности его нужно было бы назвать так: «Последний ключевой фрагмент данных, который должен влиться в информационное поле разумной мантии перед тем, как она запустит процесс Глобального Окаменения».
– Понятно, – кивает Туков. – Только каким образом здесь все-таки замешан Эдик?
– Вот именно! – с вызовом поддакнула Ольга. – При чем здесь Эдик?
– Не хотел я этого говорить, – замялся академик, с опаской покосившись на нее, – а особенно в присутствии госпожи Кленовской… Однако есть у меня подозрение, что наш художник – вовсе не тот, за кого он себя выдает. Или, если угодно, не тот, за кого мы его принимаем – так, пожалуй, вернее.
– Что?! – фыркает «фантомка». – Да как вы смеете! И не совестно вам – убеленному сединами, высокообразованному человеку, – возводить напраслину на ребенка? На сироту, который перенес столько горя!..
– Погоди, Ольга! – осаживаю я ее. – Пусть Лев Карлович договорит. Полагаю, у него есть веские аргументы в защиту своей теории, потому что, как ты правильно выразилась, речь идет все-таки о ребенке.
Кленовская награждает меня красноречивым взглядом, и я понимаю, что раскол в нашем изрядно поредевшем коллективе неизбежен. Если не сказать хуже – он уже произошел. Однако, кроме ее лютого взгляда, я перехватываю еще один – Эдика. Доселе пристально взиравший на наших врагов, он прекращает дергаться и смотрит на меня, а потом вдруг кивает. Причем делает это подчеркнуто уверенно, словно я спросил его, храбрый ли он мальчик. Только я ни о чем таком его не спрашивал и вообще с ним не разговаривал. И тем не менее Эдик со мной согласился. Осталось лишь выяснить, в чем же именно.
Его опекунша не замечает этого кивка. Кажется, она даже не поняла, что подопечный угомонился, поскольку все ее внимание сосредоточено на мне и Ефремове. И слишком уж нездоровой выглядит эта ее сосредоточенность. При взгляде на зловещий прищур Ольгиных глаз мне становится не по себе. Ей-богу, настоящая пантера перед прыжком!
– Ты прав, брат: надо с ней быть поласковее, – соглашается со мной Скептик, оставшийся совершенно не у дел в кровавой чехарде последнего часа. – Смотри, не перегни палку. Дамочка явно на взводе, не ровен час, совсем с катушек слетит. А у нее, между прочим, при себе еще пистолетик остался. Это я, знаешь ли, так, на всякий случай. Чтобы ты был начеку.
– Аргументов у меня достаточно, – заверяет академик. – И все они, в принципе, вам хорошо известны. Это – каждая из необъяснимых Эдиковых странностей. Которые кажутся вам либо чудачествами немого парнишки, либо проявлением его экстрасенсорных способностей. Но кто из вас, уроженцев этих мест, слышал до образования «Кальдеры» о живущем в Новосибирске малолетнем художнике – предсказателе будущего? Слабо верится, что подобные дети-уникумы могут расти в безвестности. Такой талант был просто обречен стать звездой если не российского, то хотя бы местного масштаба.