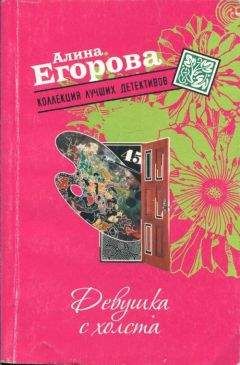Павел Корнев - Сиятельный
Я только пожал плечами, не став отвечать ни да, ни нет.
Просто не знал ответа на этот вопрос.
Сергей Кравец расценил молчание по–своему, разжег еще одну лампу и достал мощное увеличительное стекло. Изучил вытатуированную руну и объявил:
— Очень старая работа.
— Старая насколько?
— Судя по всему, человек прожил с ней большую часть жизни.
Я кивнул. Скорее всего, так оно и было. И поскольку старику было за семьдесят, сделавший наколку мастер давно мертв.
— Я не назову тебе имени, — ожидаемо продолжил Кравец. Помолчал и добавил: — Знаешь, Лео, на самом деле это мог быть кто угодно.
— Как так?
— Работа идеальная, ни единой помарки. Если интересует мое мнение — это не татуировка, это клеймо. Кто–то закрепил иглы в специальной форме.
— Понятно, — вздохнул я и уточнил: — Что–то еще?
— Нет, — покачал головой мастер.
Я завернул руку в брезент и убрал сверток обратно в портфель.
— Ничего больше не хочешь спросить? — остановил меня Кравец.
Вопрос угодил в больное место, я медленно обернулся и прислонился к дверному косяку.
— Ты не знаешь! — возразил мастеру. — Он бы тебе не сказал!
— Не сказал, — подтвердил старый башмачник.
— Тогда о чем речь?
Делать татуировки отец водил меня исключительно сюда. Он никогда ничего не объяснял, и до сих пор я не мог решить для себя, была ли это пьяная блажь или же в моих наколках скрывался некий сакральный смысл.
— Левая рука, — произнес Кравец. — Он оставил эскиз для левой руки и даже оплатил работу.
— Нет, — ответил я и быстро вышел за дверь.
Нет, нет и нет.
Я не собирался проходить через это снова.
Мне нужны были ответы. Ответы, а не новые загадки.
Оторванную руку выкинул в первый попавшийся канализационный люк.
В «Прелестную вакханку» я приехал продрогшим, промокшим и голодным. Всю дорогу перед глазами стояли блины и вареники, под конец даже начало немного мутить. В варьете я попросил сделать пару сэндвичей и травяной чай, прихватил попавшийся на глаза ореховый пудинг и поднялся в апартаменты Альберта с подносом, заставленным едой.
Поэт работал. Судя по размашистым движениям, он рисовал, но при моем появлении сразу убрал тетрадь в верхний ящик стола и даже запер его на ключ.
Я уловил аромат женских духов и не удержался от усмешки:
— Надо понимать, прекрасная незнакомка решилась посетить этот приют порока?
— Ничего ты не понимаешь в настоящих чувствах! — отмахнулся Альберт и язвительно поинтересовался: — Ты сегодня один, без своего вымышленного друга?
— Уже успел по нему соскучиться?
— Туше! — всплеснул руками Альберт Брандт и спросил: — С чем пожаловал?
— Два сэндвича, ореховый пудинг…
— Новости! — перебил меня поэт. — Какие новости о Прокрусте?
Я поморщился, отпил травяного настоя и посоветовал:
— Забудь о Прокрусте. Лучше напиши оду «Всеблагому электричеству». К нам приезжают Тесла и Эдисон.
— Телса и Эдисон приедут и уедут, Прокруст останется.
— Прокруст давно мертв.
Альберт обиделся и отвернулся к окну. Я только пожал плечами и принялся обедать, затем убрал опустевший поднос на полку, где по–прежнему валялся принесенный мной из китайского квартала бильярдный шар, и примирительно произнес:
— Кстати, Александр Дьяк мне очень помог.
— Рад за тебя! — буркнул поэт, глядя на улицу.
— Перестань!
— Леопольд, ты меня удивляешь! — взорвался Альберт. — Ты же знаешь, как мимолетно вдохновение! Я не пишу на заказ, только по велению души! Сейчас меня увлекла тема Прокруста, а ты все портишь. Своим неверием ты сбиваешь мне весь настрой!
Я с сочувствием посмотрел на поэта, но извиняться не стал.
— Альберт, он мертв, — уверил я приятеля и развалился на оттоманке. — И мертв уже давно.
— Ты не можешь знать этого наверняка!
— Могу. Иногда я бываю на его могиле. Так вот, надгробие в полном порядке. Он там, на два метра под землей, Альберт.
Поэта при этих словах будто паралич разбил. Какое–то время он молча хлопал глазами, затем подошел к оттоманке, навис надо мной и уточнил:
— Что ты сказал? Ты бываешь на его могиле?
— Ну да, — делано беззаботно подтвердил я. — Прокрустом был мой отец.
Альберт скинул мои ноги на пол, уселся рядом и поджал губы:
— Если это какая–то шутка…
— Какие могут быть шутки? — вздохнул я и уставился в потолок.
— Хватит меня разыгрывать! — возмутился поэт. — Проклятие оборотней передается по наследству по мужской линии! Это наследственное заболевание. Наследственное! А ты, насколько мне известно, не имеешь склонности выть на полную луну! Как такое может быть, а?
Я пожал плечами.
— Не знаю.
— Не знаешь?
— Думаешь, я не ломал над этим голову? Знаю одно — во мне этой заразы нет. Я бы почувствовал.
— Возможно, она просто дожидается своего часа? Что, если до сих пор продолжается латентный период?
— Альберт, это вздор! Латентный период заканчивается в подростковом возрасте, тебе любой скажет. А я не вою на луну, не боюсь серебра, и мои раны не затягиваются сами собой.
— Не знаю, не знаю….
— Тебе так хочется, чтобы я оказался оборотнем? — рассмеялся я. — Брось! Возможно, все дело в проклятии. Отец очень сильно изменился после смерти мамы, стал другим, нервным и раздраженным. В нем будто что–то сломалось. Мы вечно переезжали с места на место, словно от кого–то убегали. Нигде не задерживались подолгу, отцу все время казалось, что за ним следят. Он был связан с подпольными ячейками анархистов и христиан, ходил по самому краю, много пил. Иногда срывался.
— Убивал людей, — поправил поэт, больше не ставя под сомнение мои слова.
— Срывался, — покачал я головой. — Он вел дела с опасными людьми, и иногда эти люди думали, что могут безнаказанно на него надавить. Они заблуждались. А нам приходилось перебираться на новое место.
— Ты когда–нибудь видел сам, как он… убивал?
Я кивнул.
— Однажды мы припозднились домой, и нас решила взять в оборот шайка египтян.
— И что?
— Волонтеры три дня собирали разбросанные по парку конечности, — поморщился я от не самых приятных воспоминаний, — а папа неделю не просыхал. Он не любил убивать, просто не мог остановиться, когда на него накатывало.
— Но тебя не трогал?
— Нет.
— Как он умер?
— Я же говорю: не умел вовремя остановиться. Допился до смерти.
Альберт поднялся с оттоманки и какое–то время молча ходил по апартаментам, обдумывая услышанное. Потом начал говорить вслух.
— Анархисты, христиане, полиция, бандиты. Темные улицы и ребенок. Это все меняет, это меняет решительно все!
Он посмотрел на меня, словно первый раз увидел, и попросил:
— Лео, извини, мне надо побыть одному.
Я без лишних слов поднялся с оттоманки, взял плащ и вышел за дверь. Уже подходил к лестнице, когда Альберт высунулся следом и крикнул:
— Постой! Что ты делаешь завтра вечером?
— Понятия не имею, — ответил я. — А что?
— Ничего не планируй! У меня две контрамарки на последнее представление «Лунного цирка», — сообщил поэт и скрылся в комнате.
Решив выяснить подробности, я вернулся к апартаментам, но, когда заглянул в дверь, Альберт уже склонился над столом и что–то лихорадочно записывал, то и дело макая перо в чернильницу.
Не став отвлекать поэта, я спустился на первый этаж, уселся за дальний от сцены стол и, глядя на серый канал и падавшие с неба капли дождя, попытался понять, что изменилось во мне после недавнего признания.
Я ведь раньше никогда и никому не говорил об этом, да и сам вспоминать не любил.
Зачем рассказал Альберту? Ради его поэмы? Вовсе нет. По какой–то причине это нужно было мне самому. Но как ни силился понять, так и не решил, по какой именно.
А потом с улицы зашел Рамон Миро и стало не до того.
— Рамон! — махнул я рукой крепышу, подзывая к столу. — Садись!
Сам сходил в бар и принес еще один чайник горячего травяного настоя.
— Благодарю, — поежился Рамон, принимая чашку. Вокруг вешалки с его насквозь промокшего плаща моментально натекла целая лужа.
— Что узнал? — спросил я у приятеля, когда тот сделал несколько глотков и принялся греть озябшие пальцы о горячее стекло.
Рамон досадливо поморщился и признался:
— Немного. Мастерскую, где склепали подделку, отыскать не получилось, но кузен пообещал что–нибудь об этом разузнать.
— Уверен, что шкатулку вообще сделали на Слесарке? — засомневался я.
— Ах да! — хлопнул вдруг крепыш себя ладонью по лбу. — Совсем забыл сказать! Ходил там один иудей, справлялся насчет изделий из алюминия. Так что найти мастерскую — это только вопрос времени.
— Что за иудей? — насторожился я.
— Да непонятный, — вздохнул Рамон. — Никто толком описать не может. Воротник поднят, шляпа на лицо опущена — вот и все, что говорят. Надо найти мастера, которому он заказ поручил, тот сможет его описать. А вообще, говорят, на щеке у него бы приметный ожог.