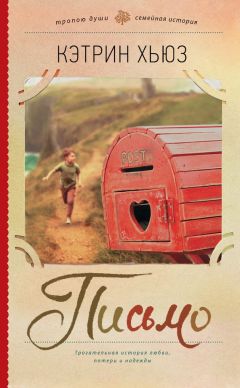Мастиф (СИ) - Огнелис Елизавета
Конечно, про гвоздь он просто так, пошутил. Какой к черту гвоздь! Страшно… Жуть как страшно. А вдруг как взорвется? Нет, бомба-то, конечно, взорвется; тут будет ад — но сумеет ли в этом аду уцелеть Мастиф? Как это вообще возможно? Неужели Иван и в самом деле всесилен? Даже представить трудно степень этого всесилия.
Почему именно он? Почему Александр Сергеевич Смирнов? Кто он, почему он, зачем? Неужели не было других, более достойных? И более достойного способа? Неужели человеку, чтобы быть услышанным, надо взорвать ядерную бомбу…
Надо. Умри, но сделай.
— С вами сейчас будет говорить президент России, — сказал бесстрастный женский голос.
Ого! Оперативно.
— Слушаю, — произнесла твердо трубка. Хорошая связь, как будто рядом сидишь, за дубовым столом, в мягком черном кресле, с неослабевающим вниманием подавшись вперед.
— Что ты слушаешь, мудак? — Мастиф развлекался. — Тебе надо было раньше слушать.
— Что вы хотите? — голос за мембраной трубки невозмутим.
— Мира, мля, во всем мире…
— У нас есть о чем поговорить…
— Это точно, есть, — согласился Александр. — Я тебе сейчас расскажу будущее. Ближайшее, на полчаса… Минут через пять я стукну молотком по капсулю. Раздастся взрыв, небольшой. Потом конуса сомкнутся, и раздастся взрыв побольше. Килотонн, думаю, на десять. Ты дальше слушай, — Мастиф перевел дух. Даже бойцовому псу бывает страшно…
— Точно не знаю, но тут сработает литров пятьдесят тяжелой воды. Рядом со мной — пусковые шахты. Прежде чем оболочка остальных ракет превратится в плазму, здесь пронесется почти ощутимый поток быстрых нейтронов — или как их там? Взорвутся десять боеголовок справа, потом еще десять — слева. Потом снова справа, потом снова слева… И так раз двадцать. Что, перспектива впечатляющая? Через полчаса ты мой голос не по телефону услышишь…
— Мы готовы выполнить все ваши условия…
— Ты что, президент, совсем от страха съехал? Ты что, не помнишь, что с террористами переговоров не ведут? Да у меня и в мыслях такого не было — с тобой или твоими шавками лясы точить… Так уж получилось… Кузнецов-то помер. Я думал с ним переговорить сначала. Хороший мужик был, и воин отменный…
— С кем вы хотите поговорить?
— С ними я уже никогда не поговорю…
— Я сожалею…
— Это я сожалею. Ты, может, мужик и хороший, только глупый. Я вот одного не понимаю — ну какого хрена надо было ко мне лезть? Ты, если у окна стоишь, посмотри вокруг… Хорошенечко посмотри… Видишь, сколько мы сделали? Не ты, не шакалы твои, а мы, работяги, крестьяне, строители. Чуешь, какая сила в нас? Это мы из-под палки строили… А если сами захотим разрушить? Представляешь эту силищу? Плохо представляешь. Ничего, сейчас услышишь, может быть — даже увидишь…
— Я готов дать вам любые гарантии…
— Молчи, не перебивай. Мы для вас, чтобы самих себя в узде держать, такие атомные лодки построили — смотреть страшно. И еще эти лодки на нашу шею повесили, на мои кровные их содержишь… А вот захотел я… не дают… лезут… жену убили, детей отобрали, ваши же сверхчеловеки отобрали… дом на хер разворотили, друзья в рядочек лежат. Никого не осталось, ничего не осталось. Зачем вы меня в угол загнали? Я же сильный, очень сильный. Я же вас сомну, всех подряд — не замечу… Неужели не наигрались в детстве в игрушки? Это моё, то моё, здесь моя граница… а у меня солдатиков больше…
— Не кажется, что тебя как этого самого солдатика используют? — голос погрубел, стал властным, слишком властным. — Сверчеловечество использует вас, Мастиф, чтобы уничтожить человечество… Чтоб им самим не пачкать руки…
— Ты своего психотерапевта из кабинета убери, — посоветовал Мастиф. — Он мне на нервы действует. Я только с тобой разговариваю. В этом разговоре помощники не помогут.
Голос глухо проворчал, что-то вроде: немедленно… сейчас же… приказ…
— Ты, верно, только об одном мечтаешь… Чтобы здесь, рядом со мной, рота спецназа образовалась. Хорошая мечта, дельная…
За бортом, перебивая Мастифа на полуслове, тяжело ухнула вода. Один раз, второй, третий. Десятки глубинных бомб рвали оболочку громадной подлодки, пытаясь добраться до того, кто вздумал угрожать, и вознамерился выполнить угрозу. Александр с ненавистью смотрел на корчащееся железо, на струи воды, на гаснущие лампочки.
— Ты, сука, так и не понял ни черта, — сказал Мастиф, и, прежде чем трубка интеркома разбилась о стену, успел еще услышать:
— Прекратить… еб вашу мать!
Взрывы прекратились, вода хлестала, Александр стоял по пояс в ледяной жиже. Ждал. Он мог ждать днями, неделями, месяцами, годами, но теперь ждал мелочи (как в принципе, и всегда) — когда вода доберется до лица. Тогда он нырнет и сделает все как надо. И еще он думал — насколько малы его маленькие обиды и ничтожные притязания. Насколько мелочны его мещанские (любимое слово!) мечты. И тут же вспоминал, сколько таких мелочных обид и унижений испытали другие — так похожие на него. Он вспомнил доярку Валю, которая плакала оттого, что после двадцати часов непрерывного труда ей объявили выговор — она не смогла выдоить тысячу с лишком коров, потому что ее напарницы — кто в отгуле, кто в болезни, кто в запое. Он вспомнил тощие слезы шестидесятилетней Леночки — старой толстой женщины, молчаливую ярость Кощея, упорное терпение Артемича. Тысячи жизней — добровольно обманутых, униженных и похабных, тысячи тысяч капель пота и сукровицы — ради куска хлеба. Он просто не мог поступить иначе…
Много раз он смотрел на зазывной плакат на кухне, с гигантскими пирамидами посреди пустыни — и видел не честь и славу ничтожного фараона, и уж не гений безвестного инженера — но труд, силу и мужество множества ни в чем не повинных людей, собранных и выжатых до последнего мгновения жизни. Он понимал — ни в коем случае не должен отступать, предаваться малодушию. Потому что пройдет совсем немного времени — и кто-то другой, быть может — более сильный и честный — склонит голову и снимет шапку, чтобы почтить жизнь того, кто не побоялся заявить о себе, кто не побоялся убивать, кто жил только по совести; и умер, измеряя жизнь одним только трудом.
Все помнят Степана Разина, Емельяна Пугачева, Ивана Болотникова. Помнят, но не знают. Этакое равнодушное незнание, не обязывающее ни к чему. Однако эти люди — и Стенька, и Емелька, и Ванька — заплатили собственной жизнью за собственное знание.
— Пора и мне, — решил Мастиф, крепко сжал молоток и — нырнул.
Пришло время.
На месте взрыва осталась воронка глубиной четыреста метров и шириной пятнадцать километров. Край воронки упирался в пригород бывшего Архангельска. Зона сплошного поражения простиралась на двести километров. От космодрома в Плесецке не осталось ровным счетом ничего. Гладкая, почти зеркальная поверхность на сто семьдесят километров вокруг. В Вологде от домов уцелели только фундаменты. Зона слабых поражений дошла и до столицы — повыбивало стекла, снесло рекламные щиты, снова отключилось электричество, а с особо ветхих домов сорвало крыши. Москва отделалась легким испугом…
Не стало сопок, вода испарилась и выгорела, сплошное облако пыли висело так, что можно резать его ножом. Ни звука, ни движения, как будто все вокруг испугалось освобожденной человеком мощи. Не понятно — было ли здесь хоть что-нибудь, когда-нибудь… Первозданный хаос и нереальная тишина — только песок сыпется с неба. Если бы пыли не было, то можно увидеть, что с севера, еще далеко отсюда — наплывает белая полоса; и она быстро приближалась, словно разъяренный океан решил посмотреть — кто так неосторожно нарушил его покой, отбросил и испарил сотню морских миль и миллионы кубометров зеленовато-серой морской воды? Полоса осторожно лизнула края воронки — с неистовым ревом и свистом кипящий поток ворвался на освободившийся плацдарм, тысячекратным Ниагарским водопадом устремился вниз, чтобы похоронить того, кто осмелился бросить вызов.
Конечно, планету не сбросило с орбиты, не вскрылись подземные пласты, хотя сейсмографы в Японии уловили легкое колебание. Тридцатиметровый цунами пронесся по всему побережью Ледовитого океана. Но кого накрыла гигантская волна? Пустяки — сто или двести тысяч… к пятнадцати миллионам других… Важнее другое. Мастиф понял, что его мечта снова осуществима. Значит, мой Ваня на самом деле сын Бога — думал Александр, с ужасом ощущая и понимая, что не может свариться в крутом кипятке. Да что кипяток — тысячи тысяч атмосфер и миллионы градусов — даже они спасовали, не смогли разорвать бренное тело. Мастиф все чувствовал, все понимал, сознание не покидало ни на мгновенье, а взрыв длился так долго! Даже не секунды — минуты…