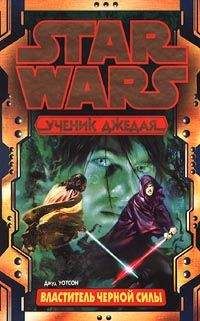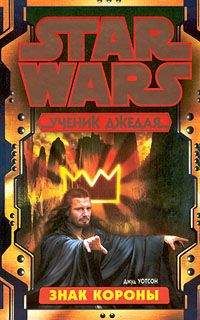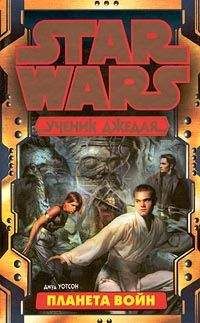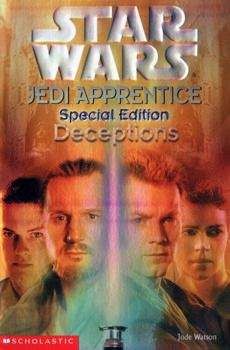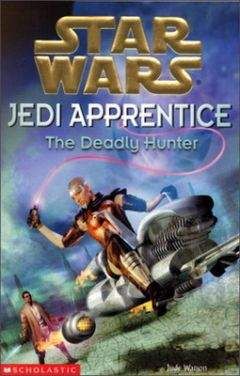Гордон Диксон - Жизнь коротка
Видите ли, кроме сбора личинок, заниматься на Венере совершенно нечем. Строить? Все, не поставленное на понтоны, засасывает топь. И растить здесь ничего нельзя, включая детей. Рай для биолога? Безусловно. Однако станций, подобных мне, нужны сотни; откуда набрать столько биологов? К тому же настоящие ученые все в Венербурге, где есть оборудование. Задача — обеспечить станцию минимумом персонала, который не сойдет с ума от двухлетнего безделья. Ответ — один человек и один киборг.
Как видите, ответ не идеальный. Я ведь пыталась убить Джона. Глупость, конечно. Теперь мне искренне жаль.
Впрочем, я бы предпочитала не говорить об этом. Если не возражаете.
Вы здесь уже два дня — подумать только! Простите, что я так долго молчала. У меня был неожиданный приступ застенчивости, тут единственное лекарство — одиночество. Я призвала на помощь благую Меланхолию, и вот все прошло. Чудища затихли, Эвридика вновь свободна. Ад замерз. Ха!
Все это чушь собачья. Почему мы постоянно говорим обо мне? Давайте поговорим о вас. Кто вы? На кого похожи? Вы хотели бы остаться на Венере? Два дня мы вместе, а я о вас ничего не знаю.
Хотите расскажу, каким вы мне представляетесь? Вы высокий — хотя, надеюсь, не настолько, чтобы испытывать неудобство в комнате с таким низким потолком, — с густым загаром и смеющимися голубыми глазами. Вы веселы, но по сути своей серьезны; сильны и в то же время ласковы. Вы начали чувствовать голод.
И всюду оставляете за собой маленьких зеленых, покрытых мерзкой слизью личинок.
О черт, простите меня. Вечно я извиняюсь. Я уже устала от этого. Я устала от полуправд и умолчаний.
Что, испугались? Хотите уйти? Нет, это только начало. Выслушайте всю историю, и тогда — может быть — я открою дверь.
Между прочим, если вы проголодались, внизу в кладовой, наверное, есть продукты. Не хочу, чтобы пошла молва о моей негостеприимности. Я открою люк и включу свет, но искать вам придется самому. Конечно, вы боитесь, что я вас там запру. Не могу поклясться в обратном. В конце концов, откуда мне знать, что вы не Джон? Вы можете это доказать? Вы и своего существования доказать не можете!
Люк оставляю открытым — вдруг передумаете. А сейчас я прочитаю «II Penseroso» Джона Мильтона. Тихо, гусеницы, слушайте. Это прекрасные стихи.
Ну как? Хочется в монастырь, правда? Так однажды выразился Джон.
Скажу в его пользу одно: он никогда не жаловался. Стоило ему шепнуть слово капитану корабля, который прилетал за личинками, и меня в два счета отправили бы на свалку. Но при посторонних он вел себя как истинный джентльмен.
Как же тогда все это произошло — если он был джентльмен, а я леди? Кто виноват? Боже милосердный, я сотни раз задавала себе этот вопрос. Виноваты мы оба — и никто. Виновата ситуация.
Не помню сейчас, кто именно начал разговор о сексе. В первый год мы говорили обо всем, а секс — в значительной мере часть всего на свете. Да и какой от этого мог быть вред — в моем-то положении? И как можно было избежать этой темы? Он упомянет былую подружку, мне это что-то напомнит…
Ничего не поделаешь, существует между противоположными полами огромное, неутолимое любопытство. Мужчине многого не дано знать о женщине, и наоборот. Даже между женой и мужем — бездна неупоминаемого, о чем не принято спрашивать и говорить. Особенно между женой и мужем… Но в отношениях между Джоном и мной, казалось, ничто не мешало полной откровенности. Какой от этого мог быть вред?
Потом… Не могу сказать точно, кто начал первым. Чудовищная ошибка! Как определить границу между полной откровенностью и эротической фантазией? Все произошло незаметно, и, прежде чем мы опомнились, образовалась привычка.
Когда я спохватилась, то сразу, разумеется, ввела строгое правило: необходимо положить конец нездоровой ситуации. Сперва Джон со мной согласился. Он был смущен, как мальчишка, которого застали за неприличным занятием. Все, сказали мы себе, кончено и забыто.
Но, как я уже говорила, это вошло в привычку. Воображение у меня было куда богаче, и Джон постепенно попал от него в зависимость. Он просил все новых историй; я отказывала. Тогда он обижался и прекращал со мной разговаривать. В конце концов я сдавалась. Видите ли, я была влюблена в него — по-своему, по-машинному, — а как иначе я могла это проявить?
Каждый день он требовал чего-нибудь новенького. Очень тяжело, знаете, найти в том, что старо как жизнь, какую-то свежесть. Шехерезада продержалась тысячу и одну ночь; я выдохлась после тридцати. И от напряжения замкнулась, ушла в себя.
Я читала стихи. Разные стихи, но в основном Мильтона. Мильтон удивительно меня успокаивал — как успокаивает милый тон, извините за каламбур.
Каламбур — вот что переполнило чашу моего терпения. Оказывается, не отдавая себе в этом отчета, иногда я читала вслух. Так сказал Джон. Днем еще ладно — он пропадал в болотах, а вечерами мы разговаривали. Но когда Джон ложился спать, я читала — делать-то больше было нечего. Обычно я просматривала какой-нибудь длинный викторианский роман, однако в ту пору, о которой идет речь, я в основном читала «II Penseroso».
Он не должен был высмеивать эту прекрасную поэму. Скорее всего он не понимал, что она для меня значит. Знаете, как озеро с чистейшей родниковой водой, где можно смыть всю грязь минувшего дня. А может, Джон просто взбесился от постоянного недосыпания?
Помните эти строки, почти в самом начале:
Богиня мне мила другая —
Ты, Меланхолия благая…
Конечно, помните. Думаю, сейчас вы знаете эти стихи уже не хуже меня. Ну а когда их услышал Джон, он разразился смехом, таким, знаете, гнусненьким, и я… Не могла же я это стерпеть, верно? Мильтон так много значит для меня, а Джон еще затянул эту мерзкую, чудовищную песенку. Наверное, ему это казалось очень остроумным, но сочетание вульгарной мелодии и искалеченных строк благородного Мильтона потрясло меня до глубины души.
Неужели надо повторять?
Приди на Венеру, богиня, не кисни,
Объятья раскрой и жеманничать брось…
И дальше в том же духе. Это даже не каламбур — просто дурная, грязная шутка. У меня до сих пор мурашки по коже.
Я велела ему уйти — немедленно. И не возвращаться, пока не осознает свою вину. От гнева я забыла даже, что стоит ночь. Как только Джон вышел, мне стало стыдно.
Он вернулся через пять минут. Извинился за дверью, и я его впустила. За плечом у него висел большой полиэтиленовый мешок для сбора личинок, но я была так рада, что не обратила на это внимания.
Он положил их на визуальные рецепторы — всего штук двадцать, каждая почти в полметра. Они боролись друг с другом за место на линзах, потому что там было чуть теплее. Двадцать мерзких, покрытых слизью личинок, ползущих по моим глазам, о Боже! Я закрыла веки, закрыла уши, потому что он вновь завел свою отвратительную песенку, закрыла двери и оставила его так на пять дней — а сама читала Мильтона.
Но на этой строчке все время сбивалась.
Наверное, подействовало наркотическое вещество. Хотя то же самое он мог сделать и в здравом уме — в конце концов, у него были все основания. Однако я предпочитаю думать, что виноваты наркотики. Ему нечего было есть. Я никогда не голодала пять дней и не представляю, до чего это может довести.
Так или иначе, когда я пришла в себя и открыла глаза, выяснилось, что глаз у меня больше нет. Он разбил все рецепторы до единого, даже на маленькой уборочной машине. Странно, все это мне было почти безразлично…
Я на пять минут открыла дверь, чтобы он мог выйти. А потом закрыла — от гусениц. Однако запирать не стала, чтобы Джон мог вернуться.
Но он так и не вернулся. Через два дня должен был прилететь корабль. Полагаю, Джон провел это время в сарае, где держали личинок. Он наверняка остался в живых, потому что иначе пилот корабля явился бы его искать. А в эту дверь никто больше не входил.
Разве что вы. Меня просто бросили здесь, глухую, слепую и полубессмертную, посреди венерианских болот. Если бы я только могла умереть от голода… износиться… проржаветь… сойти с ума! Но я слишком надежно сработана. Казалось бы, вложив в проект такую уйму денег, они попытаются спасти хоть то, что осталось, да?
Послушайте, давайте договоримся. Я открою дверь, а вы окажете мне одну услугу, хорошо?
Внизу в кладовой хранится взрывчатка. Заряды совершенно безопасны в обращении — и ребенок управится. В конце концов, Джон ведь управлялся. Если не ошибаюсь, третья полка на западной стене — маленькие черные ящички с красной надписью «ОПАСНО». Надо вытащить чеку и установить на механизме время — от пяти минут до часа. Как будильник.
Сами ящики даже не трогайте, они прямо подо мной. Потом бегите изо всех сил. Пяти минут будет достаточно, верно? Я хочу только немного почитать «II Penseroso».