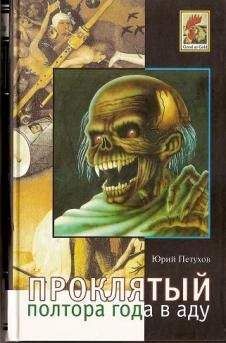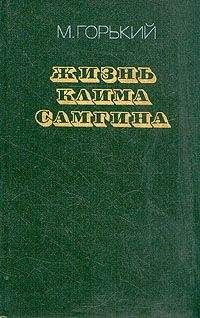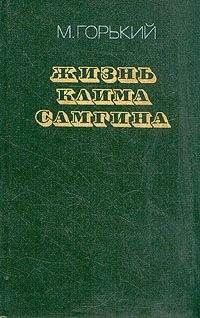Время грозы (СИ) - Райн Юрий
Румянцев глотнул из бокала, пыхнул гаваной.
— Не убедил, — констатировал он. — Ей-богу, не вижу ничего особенного. Занятно, да. Но объяснимо без привлечения потусторонних сил и прочей ерундистики.
— Тьфу на тебя, — фыркнул Федор. — Я разочарован. Лауреат тоже… Давай еще по одной, я угощаю. Да не беспокойся, Николаша, уж по порции «Коктебеля», хоть бы и пятидесятилетнего, могу себе позволить, с гимназическим-то товарищем… Так, а теперь слушай, а то твой скептицизм мне уже… Слушай! Времени мало, вот-вот конторские валом повалят, некогда станет лясы точить. Первое, может, и малость, а для меня — знак. Он, видишь ли, с Наташей Извековой сошелся, в девичестве Туровской. Помнишь Наташу? Прелестная барышня, ангел, и умна редкостно, помнишь, ну? А Митя Извеков, муж ее, годом нас моложе, тоже, должно быть, помнишь, по дипломатической части пошел, страшную смерть принял.
— Знаю, — кивнул Румянцев, — как не знать… Я его недолюбливал, но когда услышал, знаешь, Федюня, жутко стало. Наташу вот помню смутно, но ты, пожалуй, прав: барышня не лишена была известного очарования.
— Барышня, — раздраженно произнес бармен, — не просто «не лишена». Ты тут эту свою столичную снисходительность оставь, пожалуйста!
— Усти-и-инов! — насмешливо пропел гость. — Break! Что разгорячился-то?
Федор шлепнул ладонью по стойке.
— Прости, Николаша. Правда разгорячился, прости. К Наташе, не скрываю, издавна неравнодушен. Ревновал ее сильно, потом, когда Митя сгинул, переживал, а как все открылось — очень ей сочувствовал. Издали, конечно… За ангела ее почитаю, можешь смеяться… А тут этот Максим Юрьевич, без роду, без племени. И Наташа его принимает. Воля твоя, а для меня это знак.
— Между нами говоря, — заметил профессор, — пристроиться к красивой, да к тому же состоятельной вдовушке — отнюдь не признак безумия. Однако продолжай.
— Второе: он и сам… Не знаю, как объяснить. Поговори ты с ним, может, поймешь что-то умом своим ученым… Но вот видишь ли — приходит неведомо откуда совершенный дикарь, живет поначалу в заведении у Маман…
— Маман все такая же? — блеснув глазами, перебил Румянцев.
— Что ж ей сделается… Так вот, поначалу у Маман, а затем — скоро! — пленяет, уж не знаю чем, ангела Наташу, при этом, заметь, ровным счетом ни в чем ничегошеньки не смыслит, а проходит буквально полгода — и прямо-таки подминает под себя верхнемещорский, да и окрестный, рынок консультационных услуг. Любые консультации, на любые темы: недвижимость, трудовые ресурсы, коммерческие проекты, что угодно! От клиентов отбоя нет! Извековский капитал преумножается… Ревную, да, но и рад за Наташу! Живут, правда, гражданским браком, да только кому до этого какое дело, в наше-то просвещенное время?..
— А кстати, ты, Федор, женат? — спросил гость.
— Женат, женат… И детишек трое… Я платонически…
— Ну-ну, — проговорил Румянцев.
— Иди ты… Теперь третье. Может быть, это тоже психоз, но — оцени сам. Добыл себе, Горетовский, я имею в виду, добыл, не знаю как, чудовищное болгарское бренди. «Плиска» называется, слышал когда-нибудь? Вот и я до того не слышал, а ведь профессионал… Пить это никак невозможно, уж поверь. Но добыл, три ящика. Далее, эту свою одежду, в которой у нас появился, хранит, как святыню. Как туринскую плащаницу. И — внимание, профессор! — чуть гроза, облачается в это, прости меня, merde, хватает флакон своего, не могу выразиться иначе, пойла и бежит куда-то. Выясняется: бежит не куда-то, а в Природный Парк. Скачет там по деревьям — я сам видел однажды, грешен, любопытство разобрало, — пьет эту свою «Плиску» прямо из флакона. Должен сказать, Николаша, впечатление сильное! И молит Бога, громко, криком, даже не молит, а требует, послать молнию, дабы перебросила его в некий параллельный мир, представь!
Бармен перевел дух. Профессор молчал.
— И последнее, — сказал Федор. — Он в темноте светится. Вот тебе крест, — Устинов размашисто перекрестился. — Это достоверно. Светится не ярко, но при желании разглядеть можно. Желтоватое свечение такое, мягкое. Он, правда, темноты избегает, но мне как-то раз довелось лицезреть… Страх Божий.
— А обследовать на этот предмет?
— Да что ты, Николаша! — удивился бармен. — У нас, слава Богу, свободная страна. Как же можно, если он не хочет?
— Молния, говоришь? — протянул Румянцев. — Светится? Мда… Пожалуй, я с ним действительно поговорю. Веришь ли, Федюня, самое захватывающее — это не свернутые пространства, а люди, способные пространство свертывать. И развертывать.
— Ничего не понял, — сердито ответил Федор. — Иди, он осторожен, но общение любит. Ты ему понравишься. А мне уж недосуг — шесть часов, через минуту конторские пойдут. Да вот же… Доброго вечера, сударь! Один момент! Николаша, завтра я свободен, давай посидим где-нибудь, расскажешь мне, как потолковали, что надумал…
— Обязательно, — пообещал ученый. — Ну, засим не прощаюсь — мы у тебя еще что-нибудь закажем, ты подойди минут через десять.
Он встал, зажал сигару в зубах, взял бокал с «Коктебелем» и направился в угол, где сидел странный человек Максим Юрьевич Горетовский.
7. Вторник, 21 октября 1986
— Вот так я здесь и очутился, — проговорил Максим, откидываясь на спинку мягкого кресла и закуривая.
Беседовали в гостиничном номере Румянцева: бар оказался неподходящим для этого местом — посетителей после шести, действительно, сильно прибавилось, многие узнавали знаменитого земляка, подходили здороваться. С Горетовским тоже здоровались. Некоторые справлялись о здоровье Натальи Васильевны, просили кланяться. «Поедемте, Максим Юрьевич, в гостиницу, — сказал тогда профессор, — поговорим спокойно». Максим согласился, Румянцев собрался было вызвать такси, вынул из кармана переносной телефон, но Максим сказал, что он на машине.
— Знаете, Николай Петрович, — задумчиво продолжил он, — до меня когда дошло, что я свечусь, а тут еще «Боже, царя храни» по радио запели, это… В общем, поворотный момент. Пронзило вдруг, что на самом деле в другой мир попал, что гипотеза о ложной памяти — это так, самообман: мол, найдут меня родные и, как говорится, близкие, вылечат, вспомню всё, дома буду, хорошо, уютно… А вот ни хрена! Дом — он там, и родные с близкими тоже там, а вы, товарищ Горетовский, тут, и вы никто, и звать вас никак. Тут вам не там, а там вам не тут. Воспользуюсь туалетом вашим?
— Сделайте одолжение, — рассеянно ответил Румянцев.
Пока гость ходил в уборную, профессор глотнул массандровского портвейна урожая 1953 года, пыхнул сигарой, мельком отметил про себя, насколько изысканно это сочетание, особенно, когда сигара во второй трети, а в основном пытался зацепиться за некую, еще не оформившуюся мысль. Смутное что-то…
Вернувшись, Максим тоже сделал глоток (как это он, однако, портвейн пьет после пива, подумал Румянцев?), вздохнул и сказал:
— Ну, остальное вы, наверное, знаете. Я ж заметил, как вы с барменом шептались, с Федором. Долго шептались.
— Не скрою, — ответил ученый, — о вас речь шла, Максим Юрьевич.
— Да просто Максим, — мотнул головой Горетовский.
— Что ж, тогда я Николай. Ваше здоровье, Максим.
— Ага, ваше здоровье. А Федор, — Максим засмеялся, — побаиваюсь я его. Знаете, привык продавцов побаиваться, а уж барменов со швейцарами… Да, — посерьезнел он, — но, пожалуй, есть еще кое-что. Этого вам Федор рассказать не мог. И никто не мог. Я ведь все-таки на следующий день велосипед-то украл. Вернее, еще до рассвета. Ух, шатало меня тогда! Всю ночь ведь не спал, мотался черт знает где, чтобы, не дай бог, не заметили меня такого… сияющего, блин… А до этого денек тоже выдался, сами понимаете… А в голове одно: решил — выпей! В смысле велосипеда, чтобы в родные края. Хотя мне уже ясно было, что ловить там нечего. Но я упертый…
Румянцев окутался сигарным дымом, прищурился, посмотрел куда-то внутрь себя. Максим, уловив это, замолчал. Потом профессор встрепенулся: