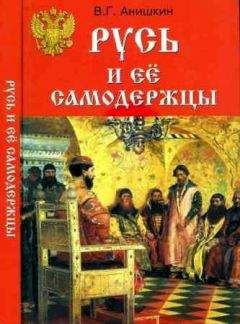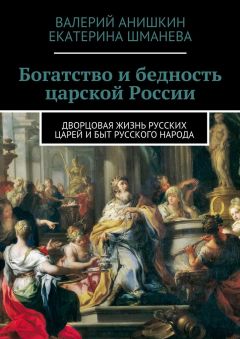"Фантастика 2023-85". Компиляция. Книги 1-14 (СИ) - Анишкин Валерий Георгиевич
— Он и читает только старые еврейские книги, — подтвердил Самуил. — Потеха. Начинает с конца и читает наоборот.
— Как это, наоборот? — усомнился Мотя.
— Ну, мы читаем слева направо и с первой страницы, а древнееврейские книги читаются справа налево с последней страницы.
— Здорово.
— Каплун, а откуда ты про Абрама все знаешь?
— Знаю, что знаю, — уклончиво ответил Изя.
— Дядя Абрам на его матери жениться хотел, — выдал тайну Самуил. Изя бросил на него презрительный взгляд:
— Пусть сначала рожу помоет. Мать от него корки хлеба не возьмет. Это он отца посадил. А потом охал, жалел, помощь предлагал. Мы голодали, а только мать копейки у него не взяла.
Изя сжал губы и замолчал. Видно, он думал о чем-то своем, чем не хотел делиться с нами.
— Ну, огольцы, купнемся! — бодро предложил Монгол.
— А купнемся, — отчаянно согласился Пахом.
Они стащили штаны, потом трусы и, закрываясь ладошками, стали опасливо входить в воду. Монгол не выдержал медленной казни холодной водой и, завопив диким голосом, бросился всем телом в речку, обдав Пахома фонтаном брызг. Пахом повернул к берегу, за ним следом выскочил с выпученными глазами Монгол и, издавая ошалелые вопли, стал как безумный носится по берегу.
Глава 5
Горбун Боря. Немец Густав и подпольщики. Помещик Никольский. Борино убежище.
Сверху послышался шорох и посыпались камешки. Цепляясь одной рукой за землю, по крутому берегу неловко спускался горбатый Боря. На голове, вдавленной в плечи, сидела мятая фетровая шляпа, засаленная и потертая настолько, что трудно было угадать ее цвет.
— Ну, что, соколики мои милые, водичка теплая? — его резкий скрипучий голос шел не из горла, а откуда-то из живота.
— Нее, холодная, — засмеялся Пахом.
— А мне сказали, как парное молоко.
Подбородок горбуна тянулся кверху, еще больше вдавливая затылок в плечи, и умные огромные васильковые глаза от этого тоже глядели вверх. Глаза были настолько выразительны, что, казалось, живут на лице отдельно, сами по себе.
— А ты сам окунись, а потом нам скажешь, — посоветовал Пахом.
— И то верно, — согласился Боря и стал неторопливо раздеваться.
Голый Боря являл совершенно нелепое зрелище. Длинные тонкие ноги, как у журавля, подпирали короткое туловище с плоским тазом, а в промежности висела, будто сама по себе, темная кила тяжелой мошонки.
— Дядь Борь, закройся, вон бабa белье поласкает, — предупредил Изя Каплунский.
— Небось не укусит, — бросил равнодушно Боря и пошел своей маятниковой походкой, закидывая руки за спину и размахивая ими где-то за ягодицами, ступая осторожно, будто пробуя воду. В речку Боря зашел также неторопливо, как шел по берегу. Когда вода дошла ему до груди, он перевернулся на спину и поплыл вдоль берега.
— Во дает, — хохотнул Монгол, — вода ледяная, окунуться б, да назад.
— Да Боря зимой по двору в трескучий мороз без рубашки ходит, — сказал Мухомеджан.
— Зачем? — заинтересовался Самуил.
— Закаляется, чтобы не болеть. Ты же видишь, он убогий, болел часто, вот и стал закаляться. Он и зимой в плаще ходит.
— Да это мы знаем, — засмеялся Пахом. — Больше надеть нечего, вот и ходит.
— Ладно, есть чего или нечего, а ты поплавай с Борей, если такой ушлый, — усмехнулся Монгол.
— Ага, разогнался. Я лучше щас Армена искупаю, — и он сделал движение в сторону Григоряна, тот приготовился вскочить.
— Да не бойся, я пошутил, — Пахом расслаблено улегся на песок.
Из речки вышел Боря. Он руками стряхнул с себя воду и стал одеваться. На теле не появились даже мурашки.
— Дядя Борь, это правда, что ты голый по двору ходишь, закаляешься? — спросил Изя Каплунский.
— Да что ты, милый, — засмеялся как заквакал Боря, — голый не хожу, а закаляться закаляюсь и, вздохнув глубоко, сказал:
— Эх, ребятушки, пошли вам бог хорошего здоровья. Плохо хворому-то.
— А правда, что ты подпольщиков у себя при немцах прятал? — поинтересовался Каплунский.
— Было такое, соколик мой, — нехотя ответил Боря.
— Расскажи, дядя Боря, — попросил Мишка Коза.
Боря вдруг поскучнел лицом и завозился со шнурками на кирзовых ботинках.
— Расскажи, дядя Борь, не ломайся, — присоединился к просьбе Мишки Монгол.
— Да ведь будь она, эта война, проклята. Как вспомню, сердце останавливается. До сих пор Густав во сне снится.
— Что за Густав такой? — поинтересовался Мотя.
— Жилец. Унтер. Как напьется, за пистолет: «Горбатч, к стенке». Да, почитай, каждый день расстреливал. Стоишь и думаешь, пальнет мимо, или спьяну попадет? А то выводил во двор. «Все, Горбатч, пошли. Ты есть партизан, и я буду тебя расстрелять». Выведет, к дереву поставит и целится в лоб. Я смерти-то не боюсь. Что я? Муха. Прихлопнул и растер. А вот унижение терпеть невыносимо. Человек, он что? Червь. Есть он — и нет его. Но это опять же, с какой стороны смотреть. Разум мне дан свыше, а отсюда и гордость человеческая, и боль, и скорбь. И терпел я унижения эти потому, что не за себя одного отвечал, а за людей был в ответе, которых хоронил в подвале своем. У меня дома подвал до войны хитрый получился. Из кухни вход под половицами. Дом-то старый, помещичий, еще Никольскому принадлежал.
— Это, какому Никольскому, деду Андрею Владимировичу? — уточнил Мишка.
— Истинно. Андрею Владимировичу. У него еще два дома по нашей улице стояло.
— Так он буржуй недорезанный, — зло пыхнул Витька Мотя. — Как же его в Сибирь не сослали?
— Э, милок, человек Андрей Владимирович особый, не стандартный.
Только революция пришла, он тут же дома Советской власти отписал. Золото, не скажу, что все, а в ЧК самолично сдал. Пришел, попросил двух сотрудников, привел в сад, показал, где копать, да не в одном, а в нескольких местах. Жена, покойница, в голос: «Ирод, по миру пустил, дочку без приданого оставил». Тот сначала слушал, а потом как гаркнет: «Цыц, купчиха чертова, изза тебя, на утробу вашу совестью торговать начали, о душе забыли. Куда копили? Кого грабили? Да взял топор — и к трубе водосточной. Разворотил коленце, а оттуда банка круглая с драгоценностями. «Вот, — говорит, — хотел на черный день оставить, а теперь вижу: не надо, ничего не надо, все берите». Да перекрестился и говорит: «До чего же мне легко стало, господи. Яко благ, яко наг».
— Ну, дед, ну Никольский! — обрадовался почему-то Пахом, а Самуил недоверчиво покачал головой:
— Ну, положим, все-то он не отдал; что-нибудь да себе оставил.
— А ты по своему Абраму не суди, — обиделся за Никольского Каплунский.
— Да, соколики мои, русская душа за семью печатями лежит. И никому не дано понять и оценить характер и поступок русского человека. Казалось бы, писатели наши: Достоевский Федор Михайлович и Толстой Лев Николаевич куда как полно раскрыли русский характер и в душу русскую заглянули. Ан нет. Еще Чехов Антон Павлович понадобился, чтобы новую струнку затронуть. И не разгадан русский человек, и не описан полностью остался.
Максим Горький изумился как-то и с восхищением воскликнул: «Талантлив до гениальности», не удержался и заметил: «И бестолков до глупости».
Взять того же Никольского Владимира Андреевича. Как сыр в масле катался. Казалось бы, чего тебе еще? Ешь, сыт и ублажен, и прихоти любые твои исполняются. А ведь ел его червь сомнения, душа роптала и протест в ней зрел.
Фашист, он так и думал, когда ему место головы Городской Думы предлагал. Мол, властью обиженный, лишился всего и теперь зубами грызть большевиков будет, а он кукиш им. Стар, говорит, немощен я служить, дайте помереть спокойно. А старик, сами знаете, крепок. И про подвал он знал, конечно. Кому как не ему свой дом бывший знать? Знал и молчал.
— Так что про подвал-то, дядя Борь? — напомнил Монгол.
Вот я и говорю. Подвал с каменными сводами был аккурат под моей квартирой, я им и пользовался. Вход со двора, из палисадника, еще до войны замуровал заподлицо с фундаментом, а проем, где кончались ступеньки и начинался подвал, тоже заложил кирпичом, так что получился потайной простенок. А вход в подвал у меня начинался из подпола. Только если в подпол спустишься, входа в подвал не увидишь, кто не знает, тот и искать не станет. Опять же, если кто вход найдет, да вниз спустится, ни за что не догадается простенок искать. А в простенок-то и можно через потайной лаз попасть, да если что, отсидеться.