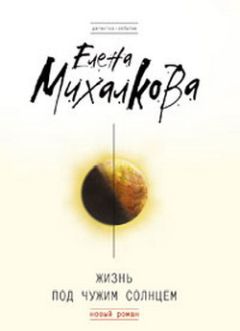Елена Ершова - Неживая вода
А про себя подумал:
"Что, если теперь он будет себя за смерть матери винить? Как я когда-то — за смерть Званки?"
— А для того… что хотел ты науку из навьих рук получить… — сказал черт. — Силу хотел… власть. Так вот тебе первый урок! Вот тебе первая сила… и первая власть! — черт взял в костяные пальцы очередную бутыль и протянул Игнату. — Чтобы новое построить… надо сначала старое разрушить. Кидай!
Игнат дернулся, отступил, словно в ладонь вложили не стеклянную бутыль, а ядовитую гадюку.
— Я в мучителя своего не стрелял. А губить невинных людей и подавно не буду.
— Не ты… так они сами… себя погубят, — ответил черт. — Видишь? Само небо их карает… — он указал рукой на горящее дерево и ухмыльнулся. — Вычистим Солонь… заберем эликсир… а с ним уйдем дальше… в Малые Топи… потом в Ждановку… потом в Сосновец… в Преславу… Весь Опольский уезд в золу обратим. Поползем по гниющим душам… как жуки… наводним, растопчем, пожрем… И не только уезд — весь мир запылает! — он сжал холодные пальцы Игната вокруг бутыли с зажигательной смесью, дохнул запахом прогорклости и тлена, шепнул: — Со мной ты?
Игнат сглотнул. Глянул помутневшим взглядом на близлежащие дома. Не выскочит ли с обрезом дядька Егор? Не поднимутся ли мужики с вилами? Женщины с факелами? Не пойдут ли мстить за Касьяна, за убитую женщину, за сбежавшего мальчика?
Пустыми и черными стояли избы. Горела сырая солома. Трескался шифер. Занимались на окнах ставни. Никто не вышел.
"Может, солоньцы давно проделали подземные ходы из своих подвалов? — подумал Игнат. — Может, спасаются там? Или послали кого-то на подмогу… Да только успеют ли?"
И, отзываясь на его мысли, издалека, словно из параллельной реальности, начал доноситься протяжный и надрывный бабий вой.
— За свою жизнь другой расплатись, — произнес черт и поджег тряпицу. — Теперь кидай. Да поскорее. Ну? Справа или слева?
Игнат мельком глянул из-под спутанных волос. Справа, за пустующим домом, стояла жилая изба бабки Агафьи. Слева, за горящей избой тетки Рады — изба Марьяны.
Он провел языком в высохшем рту и почувствовал привкус желчи и гари.
— Не… слева, — вытолкнул он.
— Люди? — догадался черт и засмеялся. И вместе с ним засмеялась навь — жутко, раскатисто, так глиняные комья скатываются на дно погребальной ямы. — Не жалей! Жги!
— Не жалей… жги! — повторили эхом серые тени.
— Будь по-твоему, — сказал Игнат и бросил.
Лисий хвост пламени взметнулся над головой. Но не долетел, упал за забор и лопнул, обдав перекошенные доски огнем и осколками.
— Эх, ты! — презрительно прошипел черт. — Ничего доверить нельзя!
Поджег новый снаряд и, размахнувшись, кинул на крышу Марьяниной избы. Игнат невольно охнул и почувствовал, как подкосились его колени. В груди стало горячо-горячо, будто сердце, все это время дремавшее под толщей льда и пепла, раздулось и взломало хрупкую броню. И потекла по жилам горячая кровь. И от забора до дома потекла по прелой соломе огненная река. А наверху, на крыше, начал разворачиваться алый штандарт. И теперь деревня горела с двух сторон.
— Чертом… стать не страшно, — ласково, по-отечески проговорил черт. — Огонь очищающий… он выгложет тебя изнутри… и не будет ни страха… ни боли… ни холода… ни ненависти… ни смерти… ни светлых снов… ни тягостных дум… а только одна пустая утроба… И легкость будет такая… и такой покой… чуешь?
— Теперь почуял, — глухо сказал Игнат и протянул руку. — А ну-ка, дай еще!
И сам поджег промасленный хвост бутыли. Размахнулся — на этот раз попал. Да нужды в этом особо не было: огонь перекинулся с соседних домов, и Марьянина изба окрасилась в уголь и медь. А ревущий ветер все раздувал и раздувал пламя. И стоял над крышами вой — не то людской, не то животный, не то вой самой стихии. Все смешалось в голове у Игната. И он рухнул на колени в грязь, уронил лохматую голову на грудь и затрясся от смеха. И смеялся долго, икая, смахивая слезы, и сквозь них глядел, как огонь вылизывает срубы, плавит стекла окон и в уголь обращает опорные балки.
— Что положено Господом от сотворения мира, — сквозь смех проговорил Игнат, — то останется тайной… И для человека… и для черта… а говорите… перехитрить нельзя! А глупость… этот грех на всех один!
Его рванули с земли. Встряхнули, как пустую мешковину. Ухо заложило звоном — это черт отвесил ощутимую оплеуху. Но сквозь обложившую голову вату Игнат услышал одно знакомое слово:
— Вода…
Тогда он протянул руку вперед, и, указав через плечо черта, сказал спокойно и ясно:
— Там твоя вода. Сказал не жалеть. И я не пожалел. Своими руками отпер тайну. Своими руками похоронил ее.
— Врешь! — выдохнул черт и замер. Стоял в нерешительности, будто обдумывал. Тянул носом воздух. А потом взвыл. Так, должно быть, воет хищник, который слишком долго шел по следу и в последний момент, решив, что уже загнал жертву в угол, вдруг понял, что след потерян и добыча ушла. Игнат почувствовал, как в живот ему впечатался тугой кулак, но боли почему-то не было. Вместо нее Игната снова начал разбирать смех.
— Ремень отдал, — сглатывая слезы, заговорил он, — в тайге выжил… Шуранские земли прошел… из огненной ловушки… выбрался… вынес… родимую… от чужих глаз укрыл… а теперь… ни страха, ни холода, ни боли, ни темных дум… и пустота… и такой покой! Правильно говоришь, легко мне ста…
Его ударили в лицо. Игнат захлебнулся слюной, закашлялся, отплевываясь кровью.
— Добыл один раз… добудешь и второй! — зашипел черт и, сграбастав Игната за шкирку, поволок к горящей избе.
В нос ударило вонью бензина, горелого дерева, паленых тряпок. Знакомый запах — запах приближающейся смерти, что едва не настигла Игната в подземелье, но упустила. А теперь напала на его след снова.
Пламя распахнуло ему свои объятья, словно мать принимала домой подгулявшего сына. Игната швырнули в дым, как в перину, и он едва успел закрыться рукавом.
— Где? Где-е?.. — ревело пламя. Или черт. Или запертые в сараях коровы.
— Ищи… — выдохнул Игнат.
Хватка на нем ослабла, и он повалился на пол, кашляя, отхаркивая кровью и пеплом, но все же стараясь как можно скорей вывернуться из фуфайки и натянуть на голове прежде, чем дым окончательно забьет легкие и погрузит сознание в немую тьму.
Игнат не видел этого глазами — скорее ощущал кожей или каким-то внутренним взором, которым обладают лишь колдуны да ведьмы ("Слепые ведьмы, — подумал Игнат. — Те, что живут за частоколом из волчьих голов и чуют чужих призраков"), — как рушится прошлое. Вот вспыхнули и рассыпались искрами толстые книги по медицине. Вот обуглились фарфоровые блюдца. Горел диван, где вечерами сидела Марьяна и вышивала вещую птицу с глазами черными, как уголья. А теперь и сама птица стала углем — прогорела и рассыпалась свернутая рулоном канва. И в ней, накалившись до немыслимой температуры, лопнула стеклянная колба. А потом вспыхнул и эликсир — горел он, должно быть, не синим и не алым, а каким-то иным, невиданным еще цветом. И запах… Игнат не чувствовал его, стараясь вдыхать как можно реже, но знал, что черт — чувствует этот неповторимый аромат смерти и сладости. И ухмылялся про себя, представляя, как хрипит, и воет, и беснуется навь, потеряв то драгоценное, за чем явилось в мир и что хотело унести из этого мира.
Потом его снова вздернули с пола и за треском и воем огня, Игнат услышал наполненный злобой голос черта:
— Твоя взяла, паршивец…
Потом последовал удар. Ощутимый, в почки. Потом еще один — под ребра. И еще — в скулу. В огненном мареве дрожал черный силуэт. Игнат задыхался, сжимал руками голову, но отбиваться не пробовал — не хватало ни желания, ни сил. Огонь выедал его изнутри. Но не тот, смертельный, взметнувший свои флаги над всей деревней. И не тот, злой и черный, душивший его после смерти Эрнеста. Это было белое и чистое пламя освобождения — и пылало оно неугасимо, ровно, будто ластиком, стирая из души черные думки и пустые мечты. Наверное, оттого, что Игнат никак не сопротивлялся и лежал, скорчившись, на обугленном полу, черту скоро надоело его бить. Игнат только почувствовал, как его встряхнули за ворот и знакомый голос произнес:
— Слюнтяй ты… дурак деревенский… каким был дураком… таким и остался. И взять с тебя больше нечего… так запомни… в первую встречу я тебя помиловал… и во вторую… помилую… А в третий раз… не обессудь… Встречу — изрублю на куски.
Его швырнуло в сторону. Игнат стукнулся плечом о покосившуюся балку, обмяк, мешком осел на пол. А когда очнулся — черта не было. Зато ходила ходуном дверь, и с улицы тянуло свежестью и спасением. Собрав остатки сил, Игнат подтянулся на локтях. Сначала левой рукой. Потом правой. Дым разъедал легкие, заволок глаза густым туманом, но страха не было. Над головой прокатился грохот — может, рушились прогоревшие перекрытия. И Игнат живее заработал коленями и локтями. Плечом толкнул обуглившуюся дверь и почувствовал, как обожгло рукав, потом щеку, потом висок. Стиснув зубы, Игнат перевалился через порог, и вот тогда грохот повторился снова — раскатистый, торжественный, как колокольный звон.