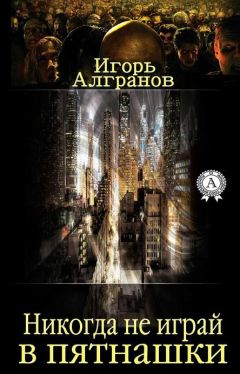Игорь Поль - Несущий свободу
– Я небрит. Исколете себе все пальцы.
– Интересно, как вы таким стали? Ведь чтобы жить так, надо всех ненавидеть.
Он ответил, глядя в темноту, голос его был исполнен убежденности:
– На Хаймате обязательно нужно что-нибудь ненавидеть. Иначе с ума сойдешь.
– На Хаймате? – переспросила она. – Так вы из… ой, простите. Я знаю, вам нельзя. Ради бога, не сердитесь.
– Вы вся горите.
– Да.
– Если бы у меня была такая сестра, как вы, я бы к ней никого не подпускал.
Она положила голову ему на плечо. Ничего не ответила. Щека ее была как камень, долго лежавший на солнце. Так же раскалена и суха.
– Вы очень красивая женщина, Ханна. Не знал, как вам это сказать.
– Благодарю за комплимент. – Он снова почувствовал ее улыбку.
– Никакой это не комплимент. Я бы и рад выговориться, да не получится. Я вчера был в церкви. Слыхали, что такое исповедь?
– Конечно, – удивленно ответила она. – Я же христианка.
– Христианка! Вы шутите.
– Ничуть. У меня и крестик есть. Вот, смотрите.
– Этот святоша сказал, что они закрыты. Будто я в мясную лавку забрел. А у самого в кармане пистолет. Представляете?
– Ужасно. – Губы ее щекотали кожу.
На какой-то момент безумный порыв – взять да и заснуть вот так, в обнимку с этой неземной женщиной, и пусть копы идут на штурм – овладел им. Он припомнил свой давешний сон – там, под дождем, – и сказал мальчику с испуганными глазами: «Сукин сын, все-таки ты меня не обманул. Дал с ней увидеться». И мальчик кивнул ему с важным видом. А потом он спустил курок, и затылок коротко стриженного человека разлетелся на куски. И девушка отчаянно закричала, так, что зазвенело в ушах. Он проснулся, схватил пистолет, резко сел, готовый к бою. Дождь по-прежнему шумел по крыше, сон и реальность причудливо переплелись, женщина с белеющим в темноте лицом испуганно спросила:
– Что случилось?
– Я что-то слышал.
Она объяснила, будто оправдываясь:
– Я просто молилась.
– Вы что, на самом деле в Бога верите? – спросил Хенрик.
– Не знаю, – ответила Ханна. – Может быть. Привычка такая – молиться, когда страшно. Все равно как пальцы на счастье скрестить. Так хочется немножко счастья. Везенья.
Хенрик сказал:
– В школе мы много молились. Утром, перед отбоем, и перед каждым приемом пищи.
– Это ничего не значит.
– Конечно, это ничего не значит. Я в это не верю. Если бы Он был на самом деле, он бы такого безобразия не допустил. Некоторые церковники – они мне сытых крыс напоминают. И что меня вчера ударило – сам не пойму. Я на исповедях всегда отмалчивался. Меня за это наказывали. Стоять на коленях в деревянной будке! Признаваться в самом сокровенном человеку, даже лица которого не видишь! Есть в этом что-то унизительное.
Он почувствовал: «стрекоз» за окном стало больше. Он опустил руку и на ощупь отыскал коробочку глушилки.
– Как необычно вы сказали. «Перед приемом пищи».
– Ох, до чего же вы въедливы! Молились-то от страха?
– Не спится. Хочу спать и не могу. А вы во сне звали какую-то женщину.
– Женщину?
– Да.
– Наверное, я просил ее не кричать, – сказал он тихо.
– Бедный.
Ханна погладила его по груди. Кажется, она делала это непроизвольно.
– Ваша женщина: как она выглядела?
– Темнокожая. Скорее, мулатка. Длинные волнистые волосы. Выразительные брови, – внезапно он замолчал, пораженный догадкой.
– На улице Селати тоже убили женщину. В газетах писали, она кричала, – задумчиво произнесла она.
– Да.
– Зачем вы это сделали? Это ведь были вы, да?
– Давно вы догадались?
– Еще там, в развалинах.
– Я же говорю – голова у вас соображает.
– Вы не ответили.
Он прислушался: чип будто умер. Он решился, выпалил, будто бросаясь в холодную воду:
– Надо убивать, чтобы не быть убитым самому – так меня учили. Никто не может от этого уйти. Мы ведь на войне. Только не все это понимают. А мне очень хотелось выжить.
– Зачем?
– Чтобы отомстить, зачем же еще? Они убили моих родителей. А из меня ручную собаку делали. Знаете, как из малолетних бандитов готовят убийц, преданных родине, которую они терпеть не могут? Там ведь регулярно мозги промывают, гипновнушения делают, оттуда все страшно верными гроссгерцогу выходят. Только я их так ненавидел, что все их внушения со временем рассасывались. Ничего они со мной сделать не смогли. Наверное потому меня и сунули в… ну, неважно. Там, где я оказался, безбашенные нужны. Безбашенность там – основа, нормальные там не выдерживают.
– Расскажите еще, – попросила она.
– Про что?
– Про себя.
– Интервью берете? – Он попытался разозлиться, но у него ничего не вышло. Злость будто умерла, не дожидаясь утра.
– Да нет, что вы. Мне по-человечески интересно. Все, что вы пережили, – ужасно. Таких испытаний хватит на много обычных людей.
Он усмехнулся:
– Это там, у вас. Здесь многим и похуже приходится. А рассказывать нельзя – умру.
– Жаль. Я не знала, что в рейхсвере служат парни вроде вас.
– Дикие?
– Нет, не белые.
– Полно. Их суют в самые гиблые места. Совсем по Ницше: умрите в нужное время.
Она молчала так долго, что он начал беспокоиться – не уснула ли? Хотелось, чтобы она спросила что-нибудь еще. Он и не подозревал, как это хорошо, когда можно кому-то довериться. Во всем. От окна тянуло холодком, и ему сейчас не верилось, что они в тропиках. Ливень унес тепло. Влажный холод напомнил ему о доме. Не о том, где побудка в пять тридцать, а потом зарядка с голым торсом. О настоящем, о том, где у него был свой крохотный уголок, детская; когда осень приносила дожди, его окно запотевало в точности как это.
– Вам ведь действительно ничего не угрожает. Там, снаружи, полицейские. Им нужен только я.
Она молчала.
– Это так странно, что мы встретились.
– Жизнь, – наконец, сказала она. – В ней так много странного. Я и вы – вместе, в этом домишке. Вы думаете о том, что хотели меня убить. Я думаю о том, что могу остановить войну. Наша встреча выглядит нисколько не более странно.
Страх покинул его.
– Я совсем размяк, – сказал он удивленно. – Эти минуты, когда я тут заснул, это первый раз за трое суток. Теперь, когда цели нет, твердость вроде и ни к чему. Вы, наверное, сейчас уйдете?
Она смотрела на него со странной смесью презрения и жалости. И чего-то еще. Любопытства? Страха? Он не знал названия. Он слушал ее взволнованное дыхание. Молча ждал.
Она спросила:
– Зачем вы меня спасли?
– Не знаю. Честное слово. Будто толкнуло что-то.
– Я так и не сказала вам спасибо.
– Не говорите глупостей. Я просто…
– Что?
– Ничего.
– Я вас не брошу. – Он почувствовал, как ее горячие пальцы пробегают по груди, изучают лицо. – Мы что-нибудь придумаем. Вместе.
– Я привык все решать сам.
– Я и не спорю.
– Не могу спать, – сказал он. – В последнее время мне стали сниться страшные сны.
Она прижалась к нему теснее.
– Мне тоже.
– Что это вы делаете?
Она дотянулась до его губ. Поцеловала. Зашипела, как кошка, от боли: запекшиеся губы норовили потрескаться.
– Что вы там говорили о правилах? Когда боишься умереть? – спросила она.
– У вас жар.
– Мы можем говорить по-английски?
– Это еще зачем?
– В нем нет разницы между «ты» и «вы».
Она склонилась над ним, глянула изучающе. Снова поцеловала, как куснула.
– Обещай мне одну вещь. Пожалуйста.
– Какую?
– Если там окажется Джон… не стреляй, ладно?
– Ладно.
– Обещаешь?
– Да. Не волнуйся – я всегда держу слово.
– Я не волнуюсь. Ты и вправду сильно небрит. – Она прильнула к нему всем телом, он ощутил упругую мягкость ее груди, жар в голове – чип включился без команды.
– Сестра, да? – спросил он, задыхаясь.
Она закрыла ему рот поцелуем. Комната плыла к чертям, и ему больше не было дела до штурмовой группы, чьи прицелы сканировали стены.
– Время от времени мужчине нужна женщина, как нужна домашняя пища. – Перевод Ницше на английский дался ему с трудом.
От ее поцелуев на губах оставался привкус железа.
– Должно быть, чистеньким дамочкам вроде тебя нравятся грязные типы.
– Господи, да заткнешься ты, наконец? – Она никак не могла справиться с застежками чужого платья.
Он удержался от соблазна рвануть на ней тонкую ткань. Вместо этого, дрожа от нетерпения, помог ей расстегнуть пуговицы. В конце концов, это платье было ее единственной одеждой.
Последняя сигарета приговоренному, снова подумал он. И еще: да пошла она, эта война.
А вслух сказал:
– Глядя на тебя, хочется жить.
Но она не понимала по-немецки. А он не решился перевести.
70
Комиссар Гебуза не раз встречался с новым председателем совета директоров на приемах у мэра; после разгрома банды боевиков Вернер Юнге – в знак признательности заслуг полиции – даже приобрел для Управления десяток новых автомобилей. Но никогда прежде Юнге не удостаивал его личным звонком, да еще по закрытому каналу. Минута такого разговора стоила дороже наручных часов комиссара.