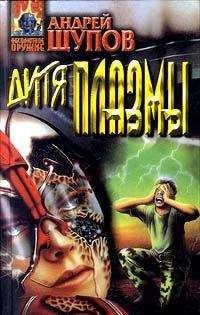Андрей Щупов - Дитя Плазмы. (Сборник)
Можете мне не верить, но нос не столь уж незаменим. Внимать запахам способна и кожа. Впрочем, следует говорить только за себя. Я чувствую запахи кончиками пальцев. Вот, в сущности, и все, что я хотел сообщить…
А во время таких танцев я совершенно перестаю соображать. Потому что погружаюсь во что-то теплое хорошее. Мозг этих вещей не понимает. Он требует отправных аксиом и алгоритмов. А теплое и хорошее в аксиому не упрятать. Потому что получится уголовный кодекс и ничего более. И я не знаю, почему, танцуя с незнакомками, я готов полюбить всех и простить каждого. Ластик терпеливо стирает все серенькое и черное, и я в состоянии вспоминать только самое светлое.
Когда-то, рассорившись с одним из начальников и подав заявление об увольнении, я перебирал в рабочем столе вещи, размышляя, что забрать, а что оставить. И неожиданно среди кнопок, скрепок и мятых листов миллиметровки обнаружил старую фотографию. На квадратике глянцевого картона были изображены он и она. А вернее — я и она. Под каким-то легким, продуваемым насквозь деревцем, на склоне холма и дня. Еще в дни школьной ветренности. Хотели просто попозировать, а она вдруг взяла и обняла меня. Этот самый миг я и вспомнил с обжигающей отчетливостью. Крохотный миг счастья, не очень понятый тогда. Прохладные ладони у меня на шее и доверчивую мягкость ее груди на моей…
Стоит ли чего-нибудь один-единственный миг любви? Или мы гонимся только за тем мифом, чтобы на всю жизнь, целиком и полностью — как храм, как гора Джомолунгма? Но ведь и храмы не вечны. И даже Джомолунгмы. Значит, один миг — это тоже кое-что?.. Во всяком случае, глядя на это простенькое фото, я вдруг до того расчувствовался, что побежал к начальнику и проникновенно попросил прощения. Сердитый и багровый, он помягчел, и что-то даже внутри него оттаяло. Я это видел. Бурча по привычке неразборчивое, он с облегчением взял мое заявление и, разорвав, отправил в мусорную корзину. Мы пожали друг другу руки. И все из-за одной-единственной фотографии. Вернее, того волшебного момента, что толкнул ее ко мне, а много позже меня к разобиженному начальнику. Видимо, подобное, не теряется. Наши порывы, как искры, блуждают по миру, передаваясь от сердца к сердцу — через слова, поцелуи и помощь.
Сейчас было нечто похожее. Мы не знали друг друга, но в чем-то стали уже родными. Вполне возможно, что, танцуя со мной, она вспоминала свою фотографию, свое полузабытое, но неутраченное. И я был рад за нее. Рад был за себя, что сумел что-то для нее сделать.
За нашими спинами захлопали в ладоши.
— Все, танцоры, хватит! Всем за стол! А Эдичка сейчас произнесет речь…
Музыка оборвалась, словно на пластинку кто-то наступил тяжелой ступней. Нас разорвали, и я поплелся к своему месту. Там кто-то уже сидел, но мне было все равно. Мозг раздражено чертыхался, а сердце все еще млело, кружась в кисельном сладостном водовороте.
— Минуточку внимания! — по бокалу забренчали ложечкой. Эдичка-Эльдар-Эдуард жаждал внимания аудитории. С Пасюком он очевидно уже расправился. Поклевав мышку, коршун прицеливался к рогам оленя. Вислогубое, щекастое лицо его дышало энергией разрушения. А в общем он был даже очень ничего: кустистые, как у филина, брови, задиристые, с капелькой глянца глаза, лоб, гармонично переходящий в раннюю лысину.
Раздумав садиться, а тем паче слушать речь жизнелюбивого Эдички, я двинулся в поисках туалета. Есть еще места, где можно на время скрыться от людей. Не самые благодатные и комфортные, но спасибо и за такие.
Первая попытка не увенчалась успехом. С расположением комнат я был плохо знаком и вместо туалета попал на кухню. Там курили двое: хозяйка и та самая, что была мною сурово записана в «кокетки». С некоторым запозданием я ощутил стыд за прежние свои мысли. Потому что вдруг понял, что стоят они тут и курят в одиночестве — обиженные и никому не нужные, объединенные общей тоской. И, конечно, костерят мужчин. За склонность к болтовне, за квелость в главном. Я осторожно попятился, и они немедленно обернулись. На мгновение в глазах у «кокетки» промелькнуло что-то милое, абсолютно человеческое, но она тут же вспомнила о своей придуманной роли, и все разом поломалось. Губы ее изогнула приторная улыбка, глаза, как театральные фонари переключились с одного цвета на другой, сменив лучистость на безыскусное сияние. Само собой, я ответил ей тем же, как в зеркале отразив благосклонную фальшь и лицемерное дружелюбие. Следовало как можно быстрее ретироваться, и, шутливо помахав дамам рукой, я извинился и вышел. Вышел, чтобы угодить в лапы капитана дальнего плавания, одновременно являющимся дальним родственником здешних хозяев.
Пьяненький мореход ткнул мне под нос «пеликанью ногу» — свой подарок хозяевам и принялся объяснять, что такие раковины — величайшая редкость и просто так на дорогах не валяются, что нельзя сравнивать нумизматов с собирателями раковин, что мертвое и живое несопоставимо и что, может быть, кое-кто и не в состоянии оценить его страсти, но я, как человек в галстуке и вполне интеллигентном клифте, — совсем другое дело и, конечно, пойму его должным образом. Я пообещал постараться, и мы тут же договорились, что на одну-единственную минутку я все-таки отлучусь в туалет. Отпуская меня, капитан милостиво улыбался. Наверное, с такой же улыбкой он отпускал морячков в увольнительную на берег.
И все же до туалета мне добраться не довелось. Уже перед самой дверью меня перехватил Толечка Пронин. Он тоже был здесь. Сумасшедших любят приглашать в гости. Они радуют и веселят нормальных. Сейчас от Толечки разило шампанским и самую малость местным кисловатым пивом.
— Пойдем, — позвал он. — Я уже в норме. Сам понимаешь, оставаться далее неприлично.
— Ммм… — промычал я. — Не понимаю, при чем тут я? Кажется, я еще в относительном порядке.
— Но ты ведь мне друг? — Толечка точно девушку приобнял меня за талию.
— Прежде всего я тебе сосед.
— Сосед и друг в одном лице — это почти братство. И потом — ты ведь тоже любишь Рыбникова с Юрой Беловым. И «Адъютанта его превосходительства» хвалишь. Вот и пошли. Можешь мне поверить на слово, наши шестидесятые-восьмидесятые еще назовут когда-нибудь золотой осенью. Творческих зуд для всех неуемных и абсолютный покой для всех лояльных! Играли в борьбу за человека! Иногда халтурно, а иногда талантливо. Атеизм любили и церковь не презирали. То есть, я в основном, так сказать, — в целом и общем… А до нормы я тебя доведу. Чес-слово! Окуджавой клянусь!
Его щетина уколола мою щеку. Он настойчиво тянул меня к выходу. Возможно, это был зов — тот самый, что выманивает бродяг на переплетение пыльных дорог, что гонит рыбу к местам далекого нереста. И все же я попытался оказать сопротивление.
— Возможно, в массе своей мы были не такие уж плохие. И мещан высмеивали, и бракоделов. Но ведь воевали! Мир порабощали.
— Так это втихаря. Никто же не знал! И потом плохо воевали, потому что понимали, чувствовали душой — не дело делаем! Вот и не старались. Так сказать, мягкий саботаж… Пошли, а? Небо, звезды, ветер в лицо!.. Чего тут делать? Я тебе так скажу: прогресса нет, и от смены правительств результат не меняется. Ветер странствий — вот, что необходимо современному человеку, а не экономика.
— Но я не один, пойми. Я с подружкой.
— Брось, — он уже пробирался в прихожую. — Все наши лучшие подружки впереди. Только попроси Толика, и он познакомит тебя с кем угодно. Хоть с самой царицей Тамарой.
— С кем, с кем?
— С самой натуральной царицей. Не веришь?
Толик изобразил на лице подобающее великодушие.
— Ладно, скоро сам увидишь.
— Да не хочу я ни с кем видеться!
Багровое лицо Толика приблизилось. Шепчущими губами он коснулся мочки моего уха.
— Ей-богу, не пожалеешь! Точеный профиль, миндалевидные глаза. В театре играет цариц и королев. Последнего любовника недавно отшила. Сейчас скучает.
— Она что, актриса?
— Она — женщина!..
Делать было нечего. Сколь-нибудь весомых аргументов против я не подобрал. Пришлось поднять руки и сдаться.
В прихожей мы споткнулись о ноги дремлющего человека. Подняв голову, проснувшийся сконфужено пробормотал:
— Ради бога… У меня так всегда. Как приду в гости, как наемся, так сразу на боковую. Ни «бэ», ни «мэ» и глаза, как говорится, до долу. В смысле, значит, слипаются…
— Никаких проблем, амиго, — Толечка аккуратно перешагнул через гостя. — Дремли, как говорится, дальше.
А вскоре мы уже спускались по лестнице. Для страховки Толик придерживал меня за руку. Он не слишком мне доверял. Заодно придержался и сам. Четыре ноги — не две, а кроме того ему действительно хотелось, наверное, познакомить меня со своей царицей.
СОЛЬ
После тесноты помещения здорово закинуть взгляд в небо — все равно как руки разбросать после диогеновой бочки. Даже весну красит в основном небо. Плюс немного зелень и плюс, конечно, женщины. Все прочее — безобразно.