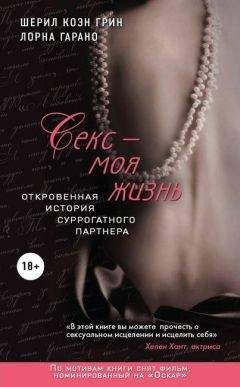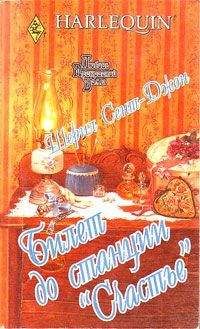Стас Северский - Боец тишины
— Ян, что они бросили?
Скулящая голова голодной собаки, обронившей добычу, свесилась вниз, и я усмехнулся.
— А ты как думаешь? Кость, конечно.
— Кость, думаешь?
— А что еще? Что еще они здесь могут есть?
— А что они могут здесь есть, Ян?
Схватил Войцеха сзади за шею холодной рукой.
— Мертвецов!
Видно дорого мне обойдется тупая выходка. Войцех рванул наверх, берясь за лопату, разгоняя собак, вырывая у меня девушку и волоча ее за собой. Я скрипнул зубами, прыгая, цепляясь за дерн и корни, торчащие на краю могилы. Кинулся догонять их, стараясь не вспоминать про хромоту и перегруженную при рывке покалеченную руку.
— Вашу ж… Да стойте вы!
Параноики просто какие-то! Нагнал их только у ограды. По привычке подкрался к ним тихо, и они закричали, когда я налетел на них из темноты. Черт… Бегут без оглядки… и через забор сигают. Дает же Агнешка жару — не ждал от нее такой прыти. Бегу за ними.
Перемахнул через забор, но опоры не нашел и полетел прямиком в канаву. Всплеск воды предупредил меня о… воде. Черт… Что за ночь?! Мне только промокнуть не хватало!
— Да вы что вообще?!
Выловил Войцеха, выбирающегося из разведенной студеной водицей грязи на другой берег обрывистой канавы. Он дернулся, оборачиваясь и отбиваясь одновременно.
— Да тихо вы! Войцех!
— Ян?
— Я!
Он охватил меня медвежьим захватом, вытаскивая их воды.
— Ян, нервы не выдержали.
— Да ты что? Никогда бы не догадался.
— Не надо больше про мертвецов, Ян… не делай так больше.
— Да что они тебе такого сделали, что ты их так боишься? Лежат себе спокойно — гниют в гробах…
— А вдруг они…
— Какой же ты у меня впечатлительный, Войцех. Не дело.
— Не люблю я мертвецов, Ян… и не надо язвить.
— Да ладно тебе, не бойся ты их. Ты на нас посмотри, мы их ничем не краше. Не тронут они нас таких, Войцех, — за себе подобных примут, приголубят, приласкают…
— Ян, не надо мне про них… ты же знаешь, что покойники едят…
— Да ничего они не едят! Мертвые они! А где Агнешка? Ты ее что, бросил?
— Нет… потерял просто.
— Твою ж… Что стоишь?! Пошли искать!
Вычислил девушку по всхлипам и пошел на голос. Продираюсь среди высокой травы по низкой воде. В острые листья тростника впутаны перья белой птицы — хищник руку приложил, растерзал здесь легкокрылого голубя. Эх, красавица моя, крадусь я к тебе хищником! Подхожу я к тебе, лебедь мой очарованный, как Зигфрид, одержимый страстью! Сейчас закипает моя кровь! А скоро полетят твои перья! Отодрал ее от коряги, в которую она вцепилась чуть не намертво, вытащил из воды русалку мою и потащил обратно — на кладбище. Надо же, в конце концов, могильник известкой засыпать и зарыть.
Глава 18
Расположившись среди древесных корней, расшнуровываю туго стянутые голенища сапог, намереваясь избавиться от канавной водицы. Понурый поляк не ноет, а девушка — просто душу мне рвет всхлипами и дрожью. Надо выбить у них из головы все ненужное и вынудить на обогревательную деятельность.
Заставил Войцеха закапывать яму и закладывать землю аккуратно срезанным дерном — правда, пришлось пообещать ему зачесть работу пропущенной тренировкой. Агнешку решил отвлечь от ночного страха и промозглой сырости переключением на молитву о непробудном сне кладбищенского сторожа.
Агнешка, видно, сильно провинилась в последнее время и нагрешила порядком, так что бог и не подумал ей помогать. Молитвы ее были проигнорированы, и сторож с ружьем наперевес попытался подкрасться к нам со спины. Засек я его задолго до неизбежного столкновения лицом к лицу, и мы дали деру еще до его приближения. Ретировались поспешно, и я не предупредил поляков о скрытных предосторожностях. Они, резко вскочив, раскидали земляные комья и… в ночной кладбищенской тиши разлетелся громовым раскатом рев сторожа, сопровождаемый протяжным и тоскливым воем голодных псов. Рад, что нас преследуют только леденящие душу вопли сторожа, похоже, с трудом проснувшегося посреди ночи от нашего шума после перепоя. Скорей всего, он в свой черед сочтет нас нечестью — от еще не протрезвевшего и не продравшего глаза человека ничего иного ждать не следует. Нам на руку. Мне даже о легендах для нашего прикрытия думать не придется — люди про нас придумают столько легенд, что мне и не снилось. Люди это дело любят — про это забывать не стоит, им надо для таких дел волю давать… им только дай простор для воображения. А особенно легкий испуг хорош… люди любят получать заряды легкого испуга. Нервишки себе потухшие подпалить, кровушку застойную разогнать никто не прочь. Эх, Игорь Иванович, нравится мне людям головы морочить, ничего не могу поделать! Эх, нравится! По душе мне людей их страхами порой попугать! И вообще — по душе мне люди с их слабостями, как кости собакам! Их слабости у меня в голове, как хрящи на зубах у хищного волка хрустят!
Глава 19
Поторопил выбившегося из сил Войцеха, тащащего сильно тормозящую нас девушку.
— Рассвет близок! Мне скрываться пора! Что тащишься, как труп?! Живей давай!
— Ян, не надо про трупы…
Я обернулся через плечо, растирая шею рукой.
— А что ты с ними не поделил?
Войцех подошел ближе с обреченной решимостью признаться.
— Ян, я тебе, как брату скажу… ты только не говори никому.
— Договорились.
— Отец мой пил сильно… пока не помер с перепоя. Он меня, когда я совсем пацаном зеленым был, с бабушкой больной запер и ушел — за дверь ушел и в запой на трое суток. А бабушка в ту же ночь скончалась. Так я с ней все время один взаперти был. И мне все по ночам казалось, что встает она… ходит и зубами стучит. Были у нее зубы такие… челюсть вставная. Она меня пугала в шутку, челюсть в руке зажимая и стуча… а я не в шутку пугался. И вот мне все виделось, что она встает в темноте, челюсть в руку берет и — стучит… около моей шеи зубами клацать начинает, только я глаза закрываю.
— Вот как…
— Только не говори никому, Ян.
— Сказал же, что не скажу.
— Стыдно мне, Ян.
— А что стыдно?
— Что отец такой, стыдно.
Травмированный мне братишка достался — да не беда, вылечим.
— Ему стыдно должно быть, а не тебе — он сволочь, а не ты.
— Только меня его делами люди клеймили. Все думали, что я такой же, как он. А я не такой, Ян.
— А дураки все. Людям, какую мысль в голову вобьешь, такую они и будут думать. Я вот им про себя такую чушь порой плел, выставляясь черт знает в каком свете… и ничего, — во все, как в чистейшую правду верили. Такое они себе в головах обо мне мнение низкое или высокое выстраивали, внимая моим легендам и взирая на мои справленные доказательства. Судили обо мне, опираясь, на мое поддельное прошлое, кишащее придуманными предками и пристанищами. А я что? Какой есть, такой и есть, — в какую бы личину не облачался, какими бы бумажками людям в лицо ни тыкал.
— А какой у тебя отец, Ян?
Я спустил с плеч куртку и показал Войцеху светлые шрамы, оставившие следы на руках и лопатках. Поляк свел мощные плечи, словно мой отец и ему по спине прошелся.
— Это он тебя так?
— Он. Проводом. Видишь, от штепселя след остался? Чуть шкуру с меня ни спустил.
— А за что?
— За вранье. Не терпит он вранья. Честный он очень. Такой же честный, как жесткий.
— А зачем ты такому отцу врал?
— Я выживал, Войцех… только выживал. Он считал, что его сын должен вырасти сверхчеловеком. А я не справлялся. Я, вырастая, становился «волком», а не человеком.
— Ты стал сопротивлялся?
— Я долго ждал своего часа, долго терпел его. А когда вошел в силу, — стал с ним воевать. Он жестоко бил меня, Войцех. Он вбил мне в голову жесткие установки… только он же их из моей головы и выбил.
— Ты его избил?
— Нет. Просто, когда он меня проводом выпороть решил… я тогда провод у него из рук вырвал и ему под ноги швырнул. Сказал, что — хватит у него духа убить меня, — не хватит сил.
— А он что?
— С тех пор меня и пальцем не тронул. Но смотреть на меня стал, как на покойника пропащего. С тех времен мне никто ничего добровольно не давал, и я все брал своей волей, выбивал своей силой. Отец мне свободу предоставил, и я на волю вырвался. Только воля моя болотом бедности и бесприютности была. Я добивался всего, что мне требовалось, но такими средствами, что…
— Не далек от тюрьмы был?
— От тюрьмы — далек, а от утраты человеческого облика — близок. Я не только сильным стал, но и рассудочным, и скрытным. Меня школа жизни так закалила, что меня по закону наказать никто не мог… и не по закону — никто не мог. К совершеннолетию я готов был окончательно в себе человека убить и выживать только «волком». Но меня армейцы под руки взяли и отправили черт знает куда, стране служить. Я им не сопротивлялся особо — мне все равно было. Я был уверен, что и на краю света свой кусок урву, а ничего другого мне и нужно не было. Когда я к командиру своему попал, — никого я не боялся, никому не верил. А командир у меня умный был. Быстро он понял, кто я такой… и быстро мне человеческий облик вернул.