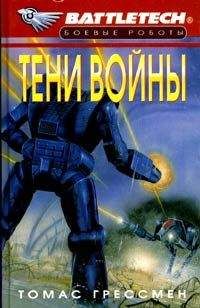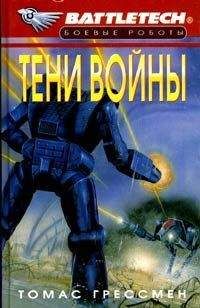Елена Ершова - Неживая вода
Игнат поклонился могиле, выпрямился, нахлобучил шапку на встрепанные кудри.
– Ну, так спи спокойно. И прощай. Теперь уже навсегда.
И пошел прочь. Лишь вздрогнул, когда за спиной треснула сухая ветка. Но Игнат не обернулся. Был у него еще один разговор – с бабкой Стешей.
Ее могила сохранилась куда лучше Званкиной. Крест полачен, у подножия – искусственные белые лилии.
«Отдают дань благодарности своей спасительнице, – зло подумал Игнат. – Ухаживают… Не то что за покойной дочерью солоньского пьяницы».
И вспомнился почему-то Сенька. В отцовском облезшем тулупе, в грязной кепчонке и глаза – вполлица, серьезные, печальные. Прощался с отцом – будто знал, что не вернется тот никогда, и до конца дней своих останется жить Сенька у тетки Вилены – рубить дрова, мыть полы да менять подгузники меньшим, а вместо благодарности подзатыльники получать.
«Что ей до меня? Одно слово – неродной…»
Игнат поежился, стряхнул явившиеся не вовремя воспоминания.
– Вернулся я отблагодарить, – сказал он громко. – За то, что жизнь мою выкупила. А еще больше – за науку. Знаю теперь, как лгать, подличать, как свою шкуру сберечь, как волчий оскал под маску добродетели прятать. И спасибо, что не дождалась. На родную бабку рука не поднялась бы. А вот прочим пощады не будет.
Помолчал. Жутким холодом повеяло из чащи. Но и тогда не обернулся Игнат, только втянул голову в ворот фуфайки да руки спрятал в рукава.
– Научился я предавать, баба Стеша. Научился убивать. И убью еще… В сердце моем – яд, в деснице – огонь. И кто устоит?
Усмехнулся, оскалив потемневшие за время странствий и недоедания зубы. Ветер пошевелил бумажными лепестками лилий. От земли потянуло сыростью и запахом перегноя.
– А когда дело закончу, – договорил Игнат, – тогда и жди меня. На том свете свидимся.
Круто повернулся на пятках и пошел прочь, не глядя по сторонам, а только под ноги.
Тучи над лесом тяжелели, взбухали тьмою. С полей поднялись крученые вихри. Сосны стонали и щелкали артритным сухостоем. Летела с востока вещая птица, птица-буря. Только не весну за собой вела – несла смерть на черных крыльях.
Но навь не явилась ни в этот день, ни на следующий. Не началась и буря: непогода обошла деревню стороной. И дважды в день – с утра и после полудня, – ходил Игнат к кострам, подкладывал сучья, менял прогоревшую резину и подливал масло. Два черных дымных веретена ввинчивались в небо, пряли зловещую нить судьбы, проложенную Игнатом для всех солоньцев и для него самого. И не было этому прядению ни конца, ни края.
Навь не шла.
Солонь замерла в страхе. Не играла на улице ребятня. Не лаяли дворовые собаки. Даже сплетницы прикусили языки и, завидев Игната, спешно прятались в домах. Не тревожили его и мужики: изредка пересекаясь с парнем, они все косились на небо, словно ждали чего-то страшного. Возмездия, не иначе. А на самого Игната никто не смотрел, словно солоньцы навсегда вычеркнули его из своей жизни.
Только однажды, возвращаясь от кострищ в деревню, Игната едва не сшиб невесть откуда взявшийся грузовик без номерных знаков. Были уже сумерки, но фары не горели. Из-под колес во все стороны летели грязь и гравий. Игнат едва успел отпрыгнуть в сторону, его штаны и фуфайку обдало бурой жижей. Выругался громко. И водитель глянул на него из кабины – да так, что Игнату показалось, будто его крапивой по лицу стегнули. Нутром почуял: мужик не местный. Да только лица разглядеть не удалось. Так и вернулся в деревню, облитый грязью едва не по макушку, злой. Солоньцы его сторонились.
Нутряной гул раздался на рассвете.
Игнат подскочил с кровати и долго пытался сообразить, так громко бьется в груди его сердце или это действительно за стенами избы с лязгом и грохотом проворачиваются тяжелые лопасти гигантского вентилятора. Парень выглянул в окно: там занимался очередной серый день. И не было ни пожаров, ни выстрелов, ни криков. Только ровный механический гул, который постепенно сходил на нет и вскоре вовсе затих, оставив после себя только неприятный звон.
Поспешно одевшись, Игнат выскочил во двор. От его дома хорошо были видны черные столбы дыма, за ночь ставшие бледней и тоньше, – это догорали костры. Значит, снова надо идти, снова подбрасывать в топку дрова и мусор. Но Игнат не пошел никуда. Стоял, словно вкопанный в сырую грязь, и не мог пошевелиться. Только во все глаза смотрел, как по склону холма спускаются четыре серые тени: одна впереди, трое чуть поодаль. Тощие. Угловатые. Медлительные.
Ожившие огородные пугала.
– Да что ж ты стоишь-то как истукан? – послышался справа хриплый окрик.
Игнат повернулся и увидел, что это бежит к нему дядька Касьян, на ходу натягивая ватник. Вечно небритое лицо мужика искажала гримаса досады и злости.
– Встречай гостей-то! – поравнявшись с домом Игната, прокричал он и остановился. – Твои это гости теперь! Тебе разговор держать, тебе и хлебом-солью встречать!
«А ведь верно, – подумал Игнат. – Я их вызвал. Я сам. Значит, мне и карты в руки».
На негнущихся ногах прошел до калитки, поравнялся с Касьяном, который теперь утирал выступивший на лбу пот. Грудь тяжело вздымалась, и тем заметнее была кожаная перевязь, на которой болталось ружье.
– Уж не на чертей ли охотиться собрался? – с усмешкой спросил Игнат.
Касьян зыркнул злобно, пролаял:
– С ружьем-то все спокойнее. Оно еще ни разу меня не подводило, не подведет и теперь, коли будет надобность.
– Боишься?
– Боюсь, Игнатушка. Страх как боюсь! Поэтому уводи-ка ты этих супостатов подальше, мы уж свое спокойствие выкупили. А за чужие грехи расплачиваться не хотим.
– За чужие – нужды нет, – откликнулся Игнат. – А вот за свои придется.
Хлопнул калиткой и мимо остолбеневшего Касьяна пошел навстречу чудовищам.
Те уже достигли околицы и остановились, будто без приглашения опасались переступить некую невидимую черту. До Игната донесся сладковатый запах: тяжелый, удушающий аромат смерти.
Украдкой, исподлобья Игнат осматривал пришельцев.
Сейчас они казались ему более похожими на людей, чем в прошлый раз. Верно говорят: у страха глаза велики. Только лица были бледны и мертвы: не лица, а восковые маски. Выдавались скулы, обтянутые серым пергаментом кожи. Из запавших глазниц тускло посверкивали болотные глаза. А еще было какое-то неуловимое сходство с эмбрионами в подземной лаборатории. Но те – лишь заготовка, первоглина, пробный экземпляр. А эти – доведенные до совершенства големы, концентрированная сила, идеальное оружие, у которого нет ни страха, ни сострадания, потому что нет души. Мертвая вода текла по их жилам вместо крови. И оттого они вернулись из мертвых, но так и не стали живыми.
– Кто… звал?
Вопрос прозвучал гулко, будто в пустом кувшине загудел ветер. Игнат вскинул голову и встретился с пылающими глазами чудовища, но не отступил, ответил спокойно:
– Я звал.
Навий приоткрыл трещину рта, отчего на парня снова дохнуло сладостью, и прогудел:
– Оброк… принят. Срок… не вышел. Горе тому… кто по пустякам зовет.
– А это вы сами решите, пустяк или нет, – ответил Игнат. – Я-то свою часть договора выполнил. До Заграда добрался, все Шуранские земли насквозь прошел и мертвую воду добыл. Теперь не худо и вам вашу часть договора исполнить.
Навьи шелохнулись, и до Игната донесся сухой шелестящий звук – так жуки трутся друг об друга лапками и хитиновыми панцирями. И подумалось, что мертвеглавцы, должно быть, действительно существуют – так деревенские дети между собой могли называть навь. А ведь были еще взрослые – ученые, участвующие в эксперименте и, если верить Прохору Власовичу, до сих пор наблюдающие за Опольским уездом, как за муравейником под стеклом. Может, было у этих существ и какое-то иное название, зафиксированное в секретных документах непонятными латинскими буквами, – узнает ли об этом Игнат? Знала ли о том сама навь?
– Помню тебя, – прервал его размышления главный навий. – Обещали оживить… подругу… если мертвую воду добудешь. Так?
– Так, – подтвердил Игнат. – Возможно ли это?
– Нет, – слово ударило гулко, будто в набат.
Под сердцем заворочалась, засосала черная тоска, но теперь она была гораздо слабей, чем прежде. Ведь Игнат давным-давно понял это, и принял, и свыкся с мыслью. А потому – было почти не больно. Почти…
– Нет, – эхом повторил он и умолк.
Некоторое время молчал, теребил пуговицу на фуфайке. Навьи тоже молчали, не двигались, ждали. Где-то за спиной хрипло дышал и хватался за ружье подоспевший Касьян, но до него никому не было дела.
– Вот что, – наконец сказал Игнат. – Вместо одного дела я два с вас попрошу. Одно не в тягость, а другое – уж как рассудите.
Навий приоткрыл акулий рот, блеснули между синюшными губами острые зубы.