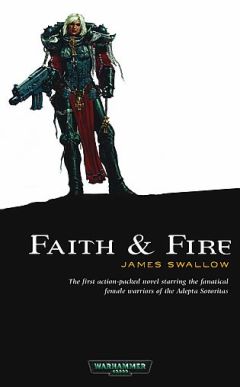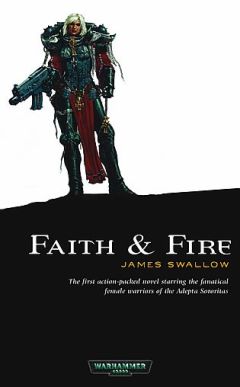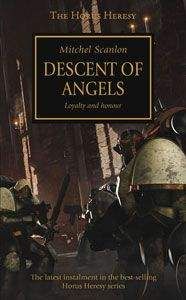Сергей Малицкий - Пагуба
Кроме всего прочего, был и голос. Однажды Тарп просидел под окном лекарской целый час, прислушиваясь, как Харава объясняет дородной торговке, что он делает с ее больными суставами, какими мазями их покрывает, каких последствий следует ждать через час, через день, через неделю. Как следует вести себя больной после выздоровления и на что обратить внимание в еде, в заботах и пристрастиях. Тарп даже улыбнулся, услышав о «пристрастиях», а потом вдруг уснул. Голос Харавы был мягким и усыпляющим, не исключено, что и торговка, которую в тот же день Тарп видел на рынке резво наматывающей хурнайскую ткань на мерку, проспала лечение. Так или иначе, но, когда Тарп протер глаза, Харавы в лекарской уже не было. Теперь Тарп шел к лекарю сам.
Не доходя до лекарской одного квартала, Тарп нырнул в уже примеченный им переулок, подошел к дому судьи, вытащил из сумки мех с вином и тщательно промыл торчащий из кованой оградки железный штырь. Или кузнец был не слишком усерден, или время подъело ржавчиной старую работу, но о штырь, превратившийся в шип, можно было недурно разодрать бок или руку. Рукой Тарп и пожертвовал, рукой и курткой. Навалился плечом, почувствовал боль, чуть сдвинул плечо в сторону и, зажимая хлынувшую кровь ладонью, побежал в лекарскую.
Он столкнулся с Харавой в дверях. Лекарь копался в замке, собираясь отправляться восвояси, но, увидев бегущего Тарпа и кровь на его пальцах, тут же принялся крутить ключ в обратную сторону.
— Заходи, болезный, заходи, — пробормотал он равнодушно, словно окровавленные молодцы забегали к нему в лекарскую по нескольку человек в день.
Тарп шагнул внутрь, отметив про себя, что ему вновь не удалось рассмотреть лицо лекаря, повинуясь вялому жесту, опустился на скамью и начал стягивать куртку. Хорошая была куртка, придется теперь латать плечо.
— И рубаху, — заметил Харава, суетясь у широкого дубового стола, раскладывая какие-то свертки, позвякивая склянками.
Тарп распустил завязки рубахи, стянул ее вместе с ярлыками. Харава шагнул в сторону, оказался за спиной старшины, наклонился над раной, окатил ее какой-то вонючей жидкостью, промокнул чистой тряпицей. Тарп было повернулся, чтобы рассмотреть лицо лекаря, но почувствовал затылком крепкие, если не стальные пальцы.
— Подожди головой-то крутить, — раздался добродушный говорок. — Ты, конечно, не девица, в обморок не упадешь, но уж больно расстарался, смотрю. Придется пару швов положить. Где ж так?
— У дома судьи о кованку, — процедил Тарп и тут же стиснул зубы: лекарь начал ковыряться в ране.
— Сейчас-сейчас, — пробормотал Харава. — Удачно зацепился, удачно. Вроде и грязь не занес. И близко от меня. И вовремя. Молодец. Ты уж прости, что я тебя без сна и облегчения латаю, ты же не просто так пришел? Ведь не отстанешь, пока не поговоришь? Можно было бы, конечно, и пристукнуть тебя за последние три дня пару сотен раз, да вроде парень ты не испорченный пока. Что хотел-то?
— В глаза тебе посмотреть хотел, — проговорил Тарп.
Лекарская вдруг стала расплываться, таять, вот уже показалось, что скамья стоит в чистом поле, вокруг до горизонта ни бугорка, а возле Тарпа вьется не сутулый старик, а белесая размытая тень.
— Не получится, — просто ответил старик.
— Почему? — не понял Тарп. — Ты же не сиун?
— Нет, — отчего-то рассмеялся лекарь. — Кто я, знать тебе не положено, а глаза мои рассмотреть тебе не по умению. Не сможешь. Да если и покажу я тебе свои глаза, все одно увидишь не то, что есть на самом деле. Ты какие глаза-то ищешь?
— Зеленые, — пробормотал Тарп и вдруг начал говорить так, словно прорвалась прореха в мешке и посыпалось на пол твердое зерно. — Зеленые, как трава. У парня одного зеленые глаза. Такие, что зеленее не бывает. Ищут этого парня. Весь Текан как караул у проездной башни стоит. Если не отыщут его, случится Пагуба. Он последний из клана Сакува.
— Где Харкис был, и где Ак, — вдруг стал холодным и как будто далеким голос Харавы. — Да и лет-то уж сколько прошло? Как от парня того ко мне хочешь веревочку кинуть?
— Не от парня того, а от лекаря харкисского, — поспешил объяснить Тарп. — Был в Харкисе лекарь именем Хаштай. Пользовал Сакува, хорошо лечил. Таких больных исцелял, которых в прочих городах сразу на погребальный костер отправляли. Дочь тамошнего урая выходил. Исчез из города как раз после рождения того парня. Года через три. За три года до падения Харкиса. На тебя похож. О внешности не скажу, а больных заговаривает точно так же, как и ты. И лечит так же, как и ты. Так что я думаю, что ты это и был.
— А глаза-то тебе зачем мои? — вдруг печально и медленно произнес Харава.
— Так если они зеленые, то выходит, что ты и есть отец того парня, — пожал плечами, вздрогнул от стынущей боли Тарп. — А если не зеленые, то знать должен, кто отец его. Ты же ходил за ней?
— Ходил за ней… — как эхо пробормотал лекарь и рывком развернул к себе Тарпа, вместе с тяжелой лавкой развернул, словно был старшина южной башни еще пацаненком и сидел на трехногом табурете в саду у собственного отца. — Ну и что ты видишь?
Лица у лекаря не было. Месиво было, которое закручивалось водоворотом на том месте, где у всех людей должно быть лицо. И глаза были посреди этого месива, но не глаза с ресницами, веками, зрачками и белками, а два красных пятна на белесом мареве.
— Зеленые? — рассмеялся лекарь и прошептал, наклонившись к самому уху Тарпа: — А теперь, парень, говори, зачем пришел. Если бы только на глаза мои посмотреть, я бы и на порог тебя не пустил. Знаю-знаю, что рыскал по городским книгам, что шелушил свитки. Не отлучался я из города уже много лет, и на ярмарке вашей тоже озоровал не я, так какой с меня спрос?
— Так если ты отец… — прошептал Тарп, с трудом прошептал, язык словно свинцом налился, — если ты отец последнего из Сакува, тогда ты ведь тоже из Сакува, а если нет, так все одно кровник. Смотрители узнают и тебя в обменку против Пагубы выставят.
— Не болтай лишнего — и не узнают, — расхохотался лекарь. — Да и что им узнавать? Разве я отец постреленыша зеленоглазого? Или ты думаешь, что я бросил бы собственное дитя? Не о том спрашиваешь, парень. Последняя попытка у тебя: зачем пришел в Ак?
— Воевода попросил, — выговорил наконец Тарп. — Не указал, не повелел, а попросил. Сказал, что ты можешь вылечить его. Нужда у него… мужская. Слабость. Детей нет, семьи нет и не будет никогда, если не излечится. Сразу после Харкиса и приключилась. Говорит, что прокляли его там. Бабка какая-то прокляла, которой он уши резал.
— Так ему колдовство потребно? — хмыкнул лекарь. — Колдовство, конечно, что же еще. Камень нужно камнем дробить. Порча на нем, парень, порча. Только я не колдун, парень. Не колдую, не расколдовываю. К тому же и бабки той уже нет. Да и уши отрезанные, наверное, просолились так, что уж не выдернешь за них бабку из Пустоты.
— Так что же ему делать? — в отчаянии прошептал Тарп.
— Каяться, — пробормотал лекарь, отодвигаясь куда-то, исчезая, тая. — Каяться и молиться, хоть той же Пустоте, кому же еще, потому как чую, что не успеет твой воевода родить ребенка до ближайшей Пагубы. Мало у него времени осталось, ох мало.
— Но ты мог бы ему помочь? — выдавил из горла крик Тарп.
— Завтра поговорим, — донесся голос. — Приходи, поговорим завтра. Может быть, и помогу, а пока что-то мне западный ветер не нравится. Но ты все равно приходи. Завтра. Ты не испорчен пока. Приходи…
Тарп очнулся на улице. Он сидел на том самом каменном парапете, на котором уснул, когда подслушивал Хараву в прошлый раз. Его меч оставался на поясе, ярлыки висели на шее, кошелек лежал в поясной сумке. И рубаха, и куртка были надеты на тело старшины и не только зашнурованы, но и зашиты. Плечо чуть саднило. Над Аком стояла южная ночь.
— Очнулся, — хихикнул стоявший рядом писец. — Ну так Харава и сказал, что очнешься. Угораздило тебя, старшина, плечо-то рассадить. С такой раной и я бы в Пустоту опрокинулся. Но все честь по чести мы с Харавой обтяпали. Он тебе плоть зашнуровал, я курточку и рубаху зашил. Что шитье, что каллиграфия — все тщания требует. Однако Харава сказал, что ты ему не должен, а мне так медяшку если подкинешь, а и не обижусь. Охраняю тут тебя, считай, часов уж пять.
Тарп потянулся, пощупал и впрямь аккуратный шов на плече, выудил из кошеля медяк.
— А сам-то Харава где?
— Дома уж давно, — махнул рукой писец. — Он один живет, нелюдим лекарь, но хороший мужик, с понятием.
— Белый сиун мелькает вблизи лекарской? — спросил Тарп.
— Сиун? — вытаращил глаза писец. — Эва ты загнул. У лекарской не мелькает, нет. Но на главной площади бывало, закруживал иногда, словно искал кого. Так-то вроде как клочок тумана, а приглядишься — вроде и человек. Но то не наш сиун, наш вроде как серый, да с приморозью, но так его и вовсе никто не видит.