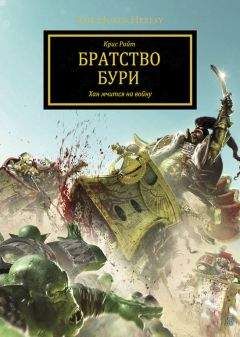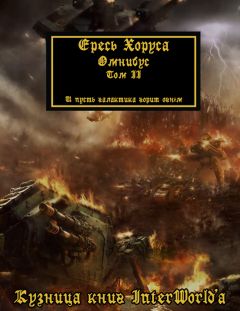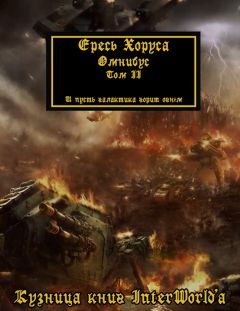Мария Семенова - Уйти вместе с ветром
— Хм, — задумалась Александра. — Ваша правда: без пол-литры не постичь… Но здесь и сейчас мне почему-то крепко сдаётся, что именно со стороны науки и философии может оказаться видней: с чем же мы тут столкнулись?
— Трудно сказать. Мы не знаем и, скорее всего, никогда не узнаем, кто и зачем взрывал дома в Москве и небоскрёбы в Нью-Йорке. Саморегуляция системы, я так думаю. Как наводнения и лесные пожары. Есть ведь разные уровни… Саморегуляция литосферы — извержения вулканов, землетрясения. Есть социальные регуляционные процессы — войны, революции. Но как регулируется ноосфера Вернадского? Что мы знаем об этом?
— Но почему — дети? Знаете, меня именно это больше всего пугает…
— А кто же ещё? Мы живём в мире, который в материально-информационном смысле жутко избыточен. Значит, по закону сохранения вещества и энергии где-нибудь должен был развиться огромный недостаток. Из другой сферы, не информационной и не вещевой. Если поразмыслить, легко догадаться, где окажется эта дыра. Там, где вещи и информация пока не имеют собственной ценности. То есть в детстве.
— Тогда Эдит права. Мир должен узнать, и…
— Не смешите меня. Вы что думаете, наш бравый Полковник действует на свой страх и риск? Нет, конечно. У него уже давно есть соответствующие указания из Центра. Единственный здесь человек, который пока сгибается под тяжестью личной, из позапрошлого века пришедшей ответственностью, это мой отважный и несчастный брат — Ваня Порядин… Нет, Александра, мир не хочет о них знать. Так же, как не хочет знать о сотнях других, не менее страшных, прямо-таки душераздирающих вещей. Есть граница приемлемости. Так вот, они — за этой границей.
— Но ваша саморегуляция ноосферы… она ведь работает вне зависимости от таких границ?
— Безусловно. Отринули их со страхом и брезгливостью и в итоге вывели — что?.. Новый вид человека? Я плохо разбираюсь в биологии, но она здесь определённо присутствует. Несколько десятилетий экспериментов над этой землёй… В результате стали рождаться… Дело даже не в уродстве или болезнях… Ну как бы вы отнеслись, к примеру, к тому, что ваш новорождённый ребёнок скалит зубы, уже имеющиеся с рождения, и поджигает взглядом занавески? Или, не умея ходить, непонятным образом перемещается из кроватки в собачью будку во дворе? Этих детей пытались сдавать в интернаты, там они сразу гибли… надеюсь, не надо объяснять почему. Потом… какой-нибудь специалист по древнему язычеству сумел бы объяснить лучше… В общем, здесь, на берегу озера, есть такое место, где их стали попросту оставлять. Его называют Проклятым Утёсом, хотя по сути это скорее не утёс, а, наоборот, лощина… Оставляли, разумеется, тайком. Местный поп пытался бороться, проклинал, провозглашал анафему бесам или как там это у церковников называется… Некоторые дети выживали. Чем больше их становилось, тем больше шансов появлялось у следующих. Родион и я, потом Клавдия Николаевна из Петербурга, ещё двое-трое… мы принимали некоторое участие… Свидетельствую: у этих детей есть одно коренное отличие от обычных. Их нельзя воспитать людьми, как нельзя воспитать дерево, или волка, или закат, или морской прилив. Можно укротить, сломать, изуродовать, убить, но… Мне всё время страшно, когда я об этом думаю. Водка спасает. Ненадолго…
Глава 24
ПРОСТРАНСТВО ДОГОВОРЁННОСТИ ВООРУЖЁННЫХ МУЖЧИН
Эдит была замотана во что-то, что ассоциировалось у Полковника с давно забытым словом «салоп». Опиралась на самодельный костыль. Загипсованную руку держала перед грудью, как автомат Калашникова. Волосы торчали, как наэлектризованные. Глаза метали чёрные молнии. Держалась явно на самолюбии и служении идее.
Остальные — переводчик, норвежка Тельма, эстонец, шведы-рыболовы, пара незнакомых мужиков, какие-то бабки в платочках, даже Зинаида и Александра из Петербурга смотрели на неё как на вождя.
— Вы не смеете! — прошипела Эдит. — Это геноцид. Мировое сообщество…
— Я военный, и на мировое сообщество мне плевать, — миролюбиво ответил Полковник. — Оно мне не указ. Есть интересы мирных жителей и есть интересы государства. Я их защищаю.
— Вы не можете вести здесь военные действия…
— Могу, если есть приказ командования или если того требует обстановка. Надо будет — начну стрелять, или маневрировать, или построю заводик по производству святой воды…
Эдит явно не читала Стругацких.
— Вы что, не поняли, тупое животное, — это дети!!!
— Нет, не понял. — В глазах Полковника мелькнули злые огоньки. — Моего друга, с которым я дружил четверть века, убили в Чечне. Пулевое, прямо в сердце. Мальчишке, который в него стрелял, было тринадцать… Здесь, в посёлке, тоже есть дети. И в Умбе есть, и в Печенге, и в Полярном. И повсюду. Эти существа опасны и для них тоже. Кто будет выбирать? Вы — возьмётесь?
После многодневной борьбы с болью и слабостью, после перенесённых стрессов Эдит была неспособна противостоять закалённому и физически здоровому мужчине. У неё началась истерика.
— А-а-а! Дождались! Вот и знаменитая достоевщина полезла! — простуженным басом завопила хрупкая француженка. — Опять взвешивание слёз ребёнка! Сколько стоит одна слезинка, две слезинки, три слезинки… Что на них можно, что нельзя обменять? Загадочная русская душа! История каждого народа — от папуасов до британцев — знала проклятые времена, когда люди торговали людьми как скотом. Вы думаете, это было давно? Моя бездетная подруга хотела усыновить ребёнка из России. Можно было легко взять малыша из Бангладеш, из Сомали, но она расистка и блондинка — да! — ей хотелось, чтобы ребёнок был белый и похож на них с мужем. Она была готова взять больного и лечить его… Она сказала русским чиновникам: я знаю, бюрократия — это ужасно, и у вас, и у нас — да! — надо много справок, мы будем их собирать. Русская сторона сказала: можно много справок, но тогда ничего не известно, а можно — двадцать тысяч евро, и тогда — всё наверняка, блондин и как вы хотите. Они усыновили сиротку из Сомали и теперь счастливы любовью. Но это — пускай, потому что все народы когда-то продавали своих детей, а некоторые продают и сейчас. Но никогда и никто, кроме вас, не додумался торговать детскими слезами! Да пошли вы неё на… со своим Достоевским!
Выражение «пошли вы на!» Эдит, к удовольствию собравшихся, ничего не понимавших, но восхищённых, крикнула по-русски.
Дорога шла прямо по берегу, иногда прячась под линию прилива. Выше лежали пески небольшой полярной пустыни, за ними — скалы, поросшие скрученными ветром соснами. Каменщик, Кирилл и Художник сидели в огромной, с двухэтажный дом куче ржавого железа — остатках самой разнообразной техники. В пределах видимости куча была одной из многих.
— Дезире сказала, тебе надо сойти с карусели, — сказал Художник.
— Ерунда, — ответил Кирилл.
Художник невозмутимо продолжал:
— Дезире обычно угадывает. Но бывает — и нет. Если попробовать?
— А как?
Кирилл с интересом оглядывался. Странный пейзаж казался ему красивым и дерзким. Присматриваясь к новым знакомым, он понял, что никакими словами не смог бы описать Каменщика — слишком чужеродным тот был. С Художником дело обстояло попроще.
— Я буду рисовать, а ты смотри. И всё.
— Но на чём же ты будешь рисовать?
— Как на чём? Да вот же — мокрого песка сколько угодно!
Это была совсем маленькая и старая карусель. Всего четыре деревянные лошадки. С грустными глазами и потёртыми бархатными попонами на плоских спинах. И ещё — деревянная Брунгильда с хитро ухмыляющейся мордой и рысь Маруся на высоких прямых ногах и с длинными-предлинными кисточками на ушах. Они с Брунгильдой гонялись друг за дружкой по кругу.
Помигивали маленькие лампочки, выкрашенные в разные цвета и развешанные на крыше. На самой верхушке развевался флажок — старый и выцветший, не вдруг и поймёшь, что на нём было когда-то нарисовано.
Художник уже сидел на одной из лошадок, сунув в стремена короткие ножки. И увлечённо, в такт движению карусели, натягивал то один повод, то оба сразу.
— Иди сюда! — помахал он Кириллу.
Карусель стояла прямо на берегу. Над вечерним морем полосой шёл ливень и быстро заштриховывал небольшие волны неровными, прерывистыми линиями.
Волосы сразу промокли. Кирилл слизывал языком капли, текущие на нос с пряди, прилипшей ко лбу.
Под крышей карусели было светло и сухо.
Кирилл осторожно подошёл к чёрной щели в деревянном полу, долго смотрел и наконец решился — шагнул и сразу крепко вцепился в уши деревянной Маруси.
— Садись, поехали! — засмеялся Художник и пришпорил свою лошадку. — Смотри, как весело!
Он видел всю эту землю и в повторяющихся кругах мог оценить безупречное чувство ритма природы, проявлявшееся в построении любого здешнего пространства. Чередование озёр, облаков, скал, сопок, крошечных берёз и огромных подосиновиков…