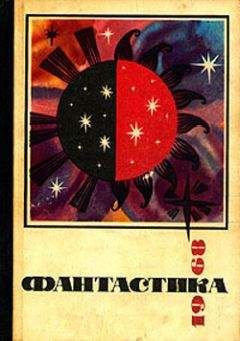Олег Верещагин - Очищение
– Как получится. Буду его защищать. Если полезут забирать силой – буду драться. Надо будет – буду стрелять.
– В своих? – прищурился Романов.
Шалаев опять пожал плечами, вздохнул:
– Я понимаю… я буду предателем. Но я им все равно так и так буду. А тут меня, по крайней мере, убьют, и не надо будет жить и мучиться, когда вспоминать стану.
– Поясни.
– Он на моего брата похож… на младшего, – сказала Шалаев. – Я за едой в тот день лазил, вернулся, а мамы и Ванька нет. Дверь просто открыта, а их нет. Я покричал, потом сунулся в ванную, а они там лежат. И головы у обоих проломлены. Топором. Головы… и руки… порублены сильно, когда они закрывались. Сильно-сильно. Их очень… очень плохо убили. Долго. Я так и не нашел, кто это сделал.
– Он почти наверняка убит, – сказал Романов.
Мальчишка вздохнул:
– Знаю… Но его же не я убил. Понимаете, не я. Я и не защитил, и даже не отомстил. А теперь я буду защищать.
– Игнат, – сказал Романов, – ты пойми, ему десять лет. Он не малыш-несмышленыш. Это в прошлом – несмышленыш в таком возрасте. В том прошлом, когда тебе, например, в твои годы уставами ООН было официально запрещено воевать.
– Женьку спросите, он расскажет… то есть напишет, – поправился Шалаев. – Этот пацан и еду в барак на заводе носил. И перед папашей своим заступался, когда у того настроение было хорошее, – он делал, как сын просил. Скольких он вот так спас? Не несмышленыш, то-то и оно. А мы теперь за его доброту его убьем?
– Игнат, если он на самом деле хороший мальчишка, он нас не простит. Будет мстить. Не сейчас, так потом. Да, можно ему мозги промыть по старым методикам…
– Не надо, – тут же угрюмо сказал Шалаев. – Это подлость. Хуже смерти подлость.
– Тогда остается только одно. Я тебе слово даю: он ничего не почувствует. Просто уснет. Он даже знать не будет, что его убили. Поест, спать захочет и…
– Подотритесь своим словом, – четко сказал Шалаев, глядя прямо в глаза Романову. – Я сказал, что я буду делать.
– Ну а потом? – Романов даже не отреагировал на оскорбление. – Потом-то что все-таки?
– Я ему все объясню. – Игнат не отводил глаз. – Со временем. Постепенно. У меня получится. Я знаю. Он поймет, правда. Он один в один Ванька. Тот тоже был очень добрый. Как дурак, добрый, нельзя было быть таким. Мне иногда так… ну, думается… может, он дверь тогда тем гадам открыл, потому что кто-то есть попросил. Или что-то вроде. Простите за то, что я сейчас… вам сказал, – Романов кивнул, – но я по-другому просто не могу. Раньше, может, я бы, наоборот, так не смог за чужого мальчишку. Но вы нас сами научили, как надо поступать. Вот я и поступаю – как надо.
– Он твой, – коротко сказал Романов. – Делай с ним, что хочешь.
Шалаев уже открыл рот, явно собираясь возражать, и только теперь понял, что именно ему сказали.
– Николай… Федорович… – пролепетал он. – Я… вы же…
– Беги за Провоторовым, скажи, что я отменил приказ и велел отдать мальчишку тебе, – сердито прервал его Романов. – И уведи его куда-нибудь вечером, как хочешь уведи… Да! – уже вслед Игнату крикнул он. – Женьку позови сюда срочно!
– Слушаюсь! – откликнулся счастливым голосом порученец…
Женька появился тут же – на ходу строча в блокноте, который он, не чинясь, сунул под нос Романову. Тот вгляделся.
«Я в поселок» – Женька явно еще и волновался, буквы спешили. «Тут парень один на меня работает. Сашка. Ждет. У нас с ним уговоренность».
– Вместе поедем. – Романов поднялся. – Переоденемся в здешнее барахло, людей возьмем, сразу там и почистим все. И еще: нет слова «уговоренность». Есть «договоренность». Или «уговор».
Женька сморщил нос, отобрал блокнот, быстро написал что-то и отдал книжечку обратно Романову:
«Все великии люди и писатели и поэты выдумывали новые слова».
Романов не нашел, что возразить.
* * *– Пойдешь опять? – Голландец смотрел на Сашку не то чтобы недовольно – скорей с каким-то сочувственным интересом. Сашка молча кивнул, стоя на одной ноге и шнуруя кроссовки; в этот момент земля мягко толкнулась, он чуть не упал, но Голландец придержал его за плечо и покачал головой: – Зря. Попадешься. Да и вообще… он тебя или обманул, или сам пропал где-нибудь. Нет такого места, про которое он говорил. Нету, понимаешь?
– Буду ходить, сколько он просил. – Сашка встал. – Извини.
– Ну смотри… – Данька покачал головой. – Зря ведь. Попадешься.
– Не попадусь… – Сашка уже повернулся уйти, но потом помедлил и сказал: – Удачи вам… тут. Я вернусь, а может, вы уже на этом складе? А?
Голландец задумчиво кивнул…
С тем странным немым мальчишкой Сашка познакомился еще зимой, когда они даже еще до этой деревни не добрались. Мальчишку звали Женькой, и он «рассказал» Сашке сказку. Про то, что есть место Владивосток, где правит храбрый, мудрый и сильный человек по фамилии Романов. Там нет голода, там дети учатся в школах и живут в семьях, пусть и не всегда родных. Там не торгуют людьми. И он, Женька, – разведчик из того места. И Романов скоро придет со своими воинами и установит справедливость.
Сашка не верил в эту сказку. Поэтому не предлагал остальным уходить во Владивосток, это прозвучало бы смешно и наивно. И в то же время он не мог отказаться от этой сказки сам. И упрямо каждые пять дней, по пятницам, ходил, рискуя, восемь километров в поселок и столько же обратно по заброшенным дорогам и лесным тропинкам, и ждал там оговоренные часы: с полудня до шестнадцати. Женька просил его делать так до середины июня. И записывал на разрозненных листках, которые хранил в рюкзаке, все, что казалось примечательным и интересным, – от слухов до словесных портретов.
Сашка понимал, что это игра и даже сумасшествие. Но иначе не мог…
В лесу было зелено, тепло и очень шумно. Сашку беспокоил этот шум. Он знал, конечно, что птицы, например, всегда сильно шумят. Но последнее время – с тех самых пор, как стала распускаться листва, – шум в лесу был каким-то истеричным. И птицы временами метались бестолково целыми стаями, и звери вели себя странновато. То агрессивно, то глупо… Как будто природу время от времени охватывали приступы массового сумасшествия. Кроме того, он боялся, что в конце концов приведет «на хвосте» один из бандитских патрулей Балабанова. Они часто рыскали по округе. Но в лес почему-то не совались, Сашка не мог понять, почему, однако всякий раз, входя в лес или выходя из него, бормотал слова благодарности. Стесняясь и неизвестно кому… но почему-то ему казалось важным это делать.
Хотелось есть. Сашка подумал, что в поселке надо будет что-нибудь стащить у уличных торговцев. Он это делал достаточно регулярно и ловко, не испытывая никаких угрызений совести, потому что презирал этих людей. За покорность бандитам и в то же время за готовность вымещать свою покорность на слабых. Главное было – не попадаться. Раньше, давно, когда он был еще маленьким и убегал из дому, он бы ни за что не поверил, что взрослые могут так ненавидеть детей только за то, что они чужие. В спецшколе понял, что могут, но утешался мыслью, что это просто уроды, которые специально собрались в это место, где можно «по закону» мучить. А теперь он точно знал, что большинство взрослых – трусливые, жестокие сволочи.
И все равно тосковал по миру, где взрослые были главными. Нынешний мир был слишком тяжел…
Недалеко от поселковой окраины он хотел напиться из родничка, как это всегда делал. Но вместо родника была сухая труба над еле-еле влажной ямой. Сашка долго стоял, ошарашенный, на выложенных из досок ступенях. Ему почему-то сделалось страшно при виде этого. В свежей траве, пробившейся на склоне, тут и там еще лежали пластиковые фантики от конфет – из давних-давних времен, – и Сашке захотелось плакать от тоски и беспомощности.
А может, и не надо больше ничего, вдруг подумал он. Все же просто. Очень-очень просто. Надо только пойти в лес за дорогой, выбрать сук попрочней, и… и все. «Мне ведь не страшно», – подумалось еще, и он, оценив эту мысль, понял, что ему на самом деле не страшно. За последние два года мучений он не раз думал о таком выходе. Но всякий раз что-то удерживало. То просто страх. То разная надежда – вернуться наконец к маме, встретить хороших людей, в то, что все наладится… Но ведь, наверное, не наладится, если даже родничок высох? Наверное, мир не выдержал. Может, не выдержал в тот момент, когда его, Сашку Белова, разлучили с мамой? Может, миру только этой капельки горя и не хватало? В любом случае он обвалился. Терпел-терпел людское гадство – и обвалился, когда двенадцатилетнего мальчишку решили «воспитывать», отлучив от матери.
Стало очень легко. Сашка даже улыбнулся. Вслух сказал:
– Ничего не наладится, – и подтверждающе кивнул.
Он стал, расстегивая ремень в джинсах – кожаный узкий ремешок, самое то, – подниматься по лестнице на дорогу.