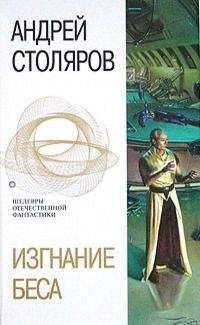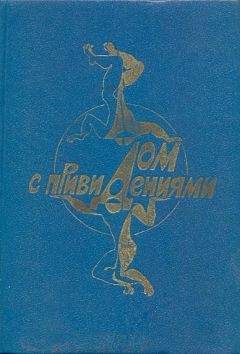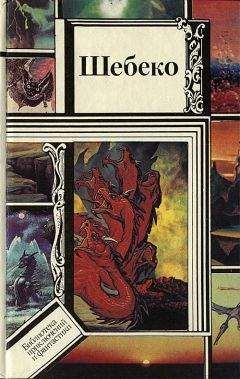Андрей Столяров - Детский мир (сборник)
Конкин проглотил кусок и его сразу же замутило.
Может быть, виноват был звериный запах, который пропитывал воздух, или яркая леденцовая корочка эскимо, казавшаяся несъедобной, или просто день был утомительный, жаркий: давка в вагонах метро, давка за билетами в зоопарк – так или иначе, но Конкин почувствовал, что проглоченная им липкая сладость неприятно пучится где–то внутри, разбухает, давит на стенки желудка – душный тошнотворный комок продвигается к горлу.
Опять, тоскливо подумал он.
Да, действительно, было – опять. Было – муторно, плохо, прилегающий мир выпирал неприветливыми углами. Избавиться от них можно было только единственным способом.
Конкин это знал.
И хрипловато бросив Таисии: Я сейчас!.. – торопливо пересек открытое место, нагретое солнцем, повернул за угол – там, где это представлялось возможным, и, уловив боковым зрением урну, точно раненый, простонав, склонился над ней.
Его тут же вывернуло.
Его вывернуло, и на некоторое время он утратил способность что–либо воспринимать, беспощадно давясь и откашливаясь едкой желудочной желчью, но когда желчь прошла и, утеревшись платком, он бросил его туда же, в урну, то внезапно почувствовал, что его деликатно тянут за локоть.
– Вам плохо, сударь?..
– Нет–нет, – быстро ответил Конкин. – Все в порядке. Пожалуйста, не беспокойтесь.
Тем не менее, он ощущал, что человек за его спиной не отстал: переминается с ноги на ногу, чем–то там шебуршит, послышался звук разрывающейся бумаги и вдруг твердая уверенная рука, протянувшаяся откуда–то слева, сунула в нагрудный карман листочек, выдранный, наверное, из блокнота.
– Меня зовут Леон, – сказал человек. – Если вы почувствуете себя как–то плохо, если такие приступы будут далее повторяться – вообще, если вам покажется, что происходит нечто странное, то позвоните мне. Я в некотором роде – врач. Прошу вас: отнеситесь к этому очень серьезно…
Он был невысокий, щуплый, одетый в джинсы и клетчатую рубашку с закатанными рукавами, а над темным, будто раз и навсегда загоревшим лицом кучерявились пружинными завитушками короткие африканские волосы.
Очень характерная была внешность.
Беспокоящая какая–то.
– Да–да, конечно, – невразумительно ответил ему Конкин. – Благодарю вас, я обязательно воспользуюсь… – И, по–прежнему чувствуя себя неловко, даже немного помахал рукой. – Вам – большое спасибо… – А затем, отвернувшись и ощущая на себе колючий внимательный взгляд, зашагал обратно, на площадку с мороженицей, где Таисия, уже беспокоящаяся за него, поднималась на цыпочки и вытягивала прорезанную мышцами шею.
Как будто так было лучше видно.
– Что случилось? – спросила она. – Тебе плохо? Вернемся домой?
– Нет, – одергивая рубашку, ответил Конкин.
– Но я же вижу: ты весь позеленел…
– Я сказал тебе: нет, – ответил Конкин.
Не могло быть и речи о том, чтобы вернуться домой. Вернуться домой – означало признать поражение.
Он это понимал.
И к тому же Витюня, услышав о такой малопривлекательной перспективе, немедленно вцепился ему в руку и слезливым, как будто девчоночьим голосом заныл, что, вот, обещали ему сводить в зоопарк, а сами, как приехали, так сразу и – возвращаться, на медведей еще не посмотрели, и на карусели не покатались. Ты же сам мне вчера обещал, что обязательно покатаемся на карусели…
Сегодня он ныл как–то особенно выразительно. И ладонь, которая вцепилась в Конкина, была дико холодной. А на пальцах ее ощущались твердые коготки.
Этакий ласковый капризный звереныш.
Конкин его очень любил.
И поэтому, не отнимая руки, позволил провести себя мимо клеток с злобновато хрипящими зебрами – прямо к выстроенной под теремок, раскрашенной бревенчатой будочке, за которой, визжа деталями, постепенно останавливалось деревянное колесо и цветастые вымпелы на крыше его обвисали матерчатыми языками.
Краем глаза он заметил, что человек, подходивший к нему около урны, держится поблизости, точно следит, но сейчас же забыл о нем, потому что карусель, длинно скрипнув, остановилась и благообразная тихая очередь, томившаяся в ожидании, неожиданно переломилась где–то посередине и, как бешеная, начала возбужденно продавливаться сквозь узкую калитку ограды. Все размахивали билетами, в том числе и Конкин, сжимающий маленькую руку Витюни, он боялся, что здесь их совсем затолкают, но усталая, остервенело жестикулирующая женщина–контролер, точно фокусник, выхватила у него билеты и привычным движением замкнула цепь, перегородив таким образом толпу надвое.
Они проскочили последними.
Однако, оглядываясь, Конкин снова заметил невысокого щуплого человека с африканскими волосами и темным лицом – тот стоял у ограды, прижатый толпой, безразличный, спокойный, и спокойствием своим как бы отъединенный от клокочущего вокруг неистовства. Кожа его казалась еще смуглее, вместо глаз почему–то синели фиолетовые круги, а запястья, высовывающиеся из рукавов, при прямом освещении выглядели угольно–черными.
Словно это был не человек, а какое–то загробное существо. Конкину вообще почудилось, что и остальные – вопящие, поднимающие над ограждением руки, также абсолютно не похожи на нормальных людей: странно высохшие, потемневшие, с выпирающими сквозь кожу костями. Лица у многих были как бы покрыты густой паутиной и прилипшие нити ее блестели, точно обмазанные слюной, а из плещущих яростных ртов торчали черные зубы.
Он даже зажмурился.
Впрочем, наваждение продолжалось недолго. Уже в следующую секунду просияла небесная синь, как подброшенные выпорхнули грачи, торопящиеся куда–то за кормом, и послышался раздраженный, но в данный момент успокаивающий и привычный крик контролера:
– Куда прете?!..
Жизнь вернулась в обычное русло.
Заскрипел, завизжал суставами механизм карусели, деревянный круг мелко дрогнул и, набирая скорость, пошел вперед, окружающее пространство начало поворачиваться, размазываясь удлиненными пятнами, радостно вскрикнул Витюня, вцепившийся в гриву лошади, плотный, пропитанный звериными запахами воздух шарахнул в лицо – Конкин так же судорожно вцепился в деревянную гриву. Он не понимал, что происходит. Травма? Травма была месяц назад. И какая там травма – толкнуло боком автобуса. Он ведь даже по–настоящему не упал. Просто мягко и сильно ударился о «жигули», стоящие у тротуара. Полежал всего день, а потом как ни в чем не бывало пошел на работу. Правда, с этого все, по–видимому, и началось. Отвращение к жизни, отвращение к привычному миру. Будто в сознании у него что–то сдвинулось. Может быть, в самом деле что–то сдвинулось в психике? Сотрясение мозга или что–нибудь в этом роде? Может быть, в самом деле имеет смысл показаться врачу? Одно время Таисия на этом настаивала. Но явиться к невропатологу – значит признать болезнь. И в дальнейшем всю жизнь тащить за собой некий комплекс неполноценности. Нет, к врачу обращаться не стоит. Это – мелочи, ерунда, это, конечно, пройдет. Надо просто собраться и взять себя в руки. Надо взять себя в руки, тогда все будет отлично.
– Все будет отлично! – крикнул Конкин.
Крик пропал, сорванный встречным потоком воздуха. Что–то взвизгнул в ответ сияющий от восторга Витюня. Что именно – слышно не было: вспыхнули краски и загремела бьющаяся о купол карусели бодрая музыка.
Все действительно было отлично.
Из аттракциона они вышли, расплываясь улыбками. Витюня держал Конкина за мизинец – непрерывно подпрыгивал, чтобы обратить на себя внимание, и ужасно, как маленький телевизор, трещал, всем своим телом изображая недавние переживания – что, вот, видишь, нисколько не испугался, ты говорил, что я испугаюсь, а я нисколько не испугался, ну – совсем нисколько, ну, ни на вот чуть–чуть, и даже глаза не закрыл, а все вокруг – вертится, вертится, и мама тоже – вертится, вертится, а он летит выше всех, и ему ничуть, ни на вот столько не страшно…
– Молодец, – одобрительно сказал Конкин.
Он был рад, что все уже позади. И Таисия, глядя на них, тоже непроизвольно заулыбалась – одобрительно взяла Конкина под руку, немного прижавшись. Со стороны они, наверное, напоминали рекламный плакат: «Папа, мама и я». Но Конкину было без разницы. Он тряхнул головой и втянул ноздрями дразнящую майскую свежесть:
– Великолепный сегодня день… Правильно сделали, что – поехали…
– Ну вот, а ты не хотел, – сказала Таисия.
И Конкин, признавая свою ошибку, кивнул:
– Виноват, виноват…
Ему было по–прежнему хорошо. Чувство это даже усилилось, когда они вышли к площадке молодняка, представляющей собой громадную квадратную клетку без крыши. Пятеро взъерошенных медвежат играли внутри. Они ползали по бревну, перекинутому между двумя массивными чурбанами, карабкались на распиленное сучковатое дерево, основание которого уходило в бетон, неуклюже боролись друг с другом, плескались в огромной лохани, резко взбрыкивали, толкались или, наконец, просто пытались подрыть затоптанную до каменной глади, сухую плоскую землю. Витюня искренне смеялся, глядя на них. Особенно ему понравился шестой медвежонок, который, держась несколько в стороне, пробовал на излом железные прутья клетки. Забавный был медвежонок. Он сначала обхватывал один их прутьев, – тряс, пихал и недоуменно рычал на него, потом старался согнуть, напрягаясь так, что вздувались бугры круглых мускулов на загривке, затем грыз, как бы надкусывая, неподатливое железо и, наконец, рассердившись, бил по нему лапой и переходил к следующему. Так – раз за разом. Неутомимо. Конкин, точно загипнотизированный, наблюдал за ним. Было в его движениях нечто привлекающее внимание. Может быть, та человеческая настойчивость, с которой он пытался вырваться на свободу.