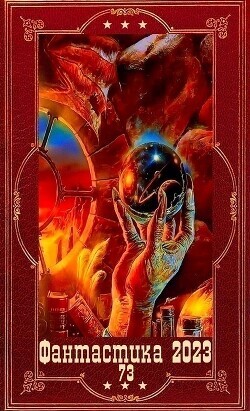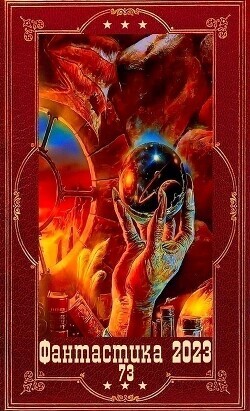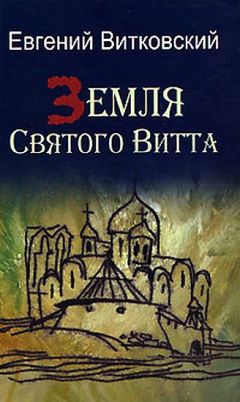Техник-ас - Панов Евгений Владимирович
Финн снова попытался отвести глаза. Было видно, что он побледнел.
– Смотреть! Вы, Юутилайнен, убили сразу семнадцать детей. Ещё восемь умерли от ран в больнице. А теперь назовите мне хоть одну причину, почему мы не должны вас повесить, после того как вы убили наших детей!
Я говорил размеренно и негромко, но, видимо, было что-то такое в моих глазах, что заставило финна отшатнуться. Он не удержал равновесие и, плюхнувшись задом на табурет, закрыл лицо ладонями. Его плечи затряслись в беззвучных рыданиях.
– Я… Мы… – Он бессильно опустил ладони и поднял лицо с красными глазами. – Мы не знали, что там дети… Поверьте…
– Допустим, не знали. Но вы прекрасно видели Красные Кресты на машинах и целились вы именно по ним. Или это входит в ваши европейские ценности – расстреливать санитарные машины и эшелоны? Есть фото, на которых ясно видно, как вы втроём, один за другим, целенаправленно расстреливаете именно санитарные машины. Вы преступник, Юутилайнен, и вас будут судить как военного преступника. И знаете что? Лётчиков нашей эскадрильи называют любимчиками Сталина. Отчасти они правы, и я лично обращусь к товарищу Сталину, чтобы вас приговорили к смертной казни и повесили, а не расстреляли.
Нет, лучше я сделаю по-другому. Я распространю эти фото в Ленинграде, а потом отдам вас в руки людей, и пусть они порвут вас в клочья. Но и это ещё не всё. Вы назвали нас варварами – ну что же, будь по-вашему. У варваров был чудесный обычай кровной мести. Когда закончится война, каждый лётчик нашей эскадрильи, каждый механик, повар и официантка из столовой начнут охоту за вашими родными и близкими. Мы жестоко уничтожим весь ваш род до седьмого колена. Настолько жестоко, что могильщики на кладбищах будут до конца дней своих просыпаться по ночам от кошмаров, вспоминая, в каком виде они хоронили ваших близких.
– Вы… Вы… Вы не сделаете этого…
Губы Юутилайнена тряслись, а в глазах стоял ужас.
– Сделаю, прапорщик. Ещё как сделаю. С наслаждением. Жаль, вы этого уже не увидите. Хотя можно попросить отсрочить приведение приговора в исполнение и после каждой акции показывать вам фото того, что останется от тех, кто был вам близок и дорог.
У вас есть крохотный шанс, что я передумаю. Отвечайте правдиво на все вопросы, и тогда, возможно, вас не повесят, а расстреляют, и я не трону вашу семью. Думайте, Юутилайнен, думайте. Только не затягивайте с этим.
Я не стал ни с кем прощаться и поспешил выйти. Ещё минута – и я своими руками свернул бы шею этой мрази. Как сдержался, было совершенно непонятно.
– Спирт есть? – спросил я у сидящего за своим столом, наверное, секретаря с петлицами сержанта госбезопасности.
– Н-н-нет… – Вопрос его явно ошарашил. – Есть водка.
– Сойдёт. Давай сюда.
Сержант в полном недоумении достал из стола фляжку и протянул мне.
– Открывай, – кивнул я на фляжку.
Сержант, как сомнамбула, открутил крышку.
– А теперь лей, – подставил я ладони под фляжку. – Ну, лей, чего застыл?!
Водка ручейком потекла из горлышка прямо в ладони. Я с огромным удовольствием, под вытаращенными глазами сержанта, вымыл ею руки, словно дезинфицируя их после общения с заразным. Хотя, наверное, так оно и было.
Мы совершали каждый день по два, три, а то и четыре вылета, и редко какой из них обходился без воздушного боя. Немцы словно с цепи сорвались и пытались прорваться к ледовой трассе, постоянно меняя тактику. Это мог быть одиночный бомбардировщик с одной тысячекилограммовой бомбой или большая, до восьмидесяти – ста тридцати единиц, группа самолётов противника. На разных высотах, разными типами самолётов. И всё с одной-единственной целью – прервать сообщение Ленинграда с Большой землёй по льду Ладожского озера.
По сведениям, полученным от пленных, мы знали, что Гитлер был в бешенстве и пообещал вызванному в Берлин командующему 1-м воздушным флотом генерал-полковнику Альфреду Келлеру, что разжалует его в рядовые и пошлёт в окопы на Восточный фронт, если тот не уничтожит ледовую трассу.
Перехватить все самолёты противника, даже имея такое большое подспорье, как радиолокационная станция, мы были не в силах, и то тут, то там на Дороге жизни появлялись огромные полыньи от разрывов тяжёлых немецких авиабомб.
Выматывались все: и мы, и лётчики других авиаполков. Несмотря на зимний мороз, нас вытаскивали из самолётов в насквозь мокрых зимних комбинезонах. Самостоятельно мы зачастую вылезти из кабин уже не могли: просто сил не было.
Две недели немецкого авиационного наступления вымотали всех. Потери были просто огромными – как у немцев, так и у защитников неба над Ладожским озером. То тут, то там с ледяной белой глади озера в небо поднимались чёрные чадящие столбы дыма от горящих сбитых самолётов.
Горело вытекшее из баков горючее, и казалось, что сам лёд горит. Огненный лёд Ладоги.
Нас старуха с косой пока обходила стороной, а вот другие полки недосчитались многих опытных пилотов. Да и мы от усталости начали допускать в небе ошибки, несколько раз едва не закончившиеся для нас печально. Во всяком случае, пробоин в плоскостях мы стали привозить из вылетов очень много.
Лётчики ходили злые и раздражённые, срывались друг на друга и на техников. Сам был свидетелем, как старший лейтенант Мищенко (позывной Вьюн), вернувшись с боевого вылета, набросился на своего техника с претензией, что тот недосмотрел за пулемётом, который заклинил в самый критический момент. Бледный техник (а за такой залёт запросто можно и под трибунал угодить) полез проверять вооружение, и оказалось, что Вьюн просто расстрелял весь боекомплект до железки и не уследил за этим. Пришлось извиняться перед ни в чём не повинным техником.
Налётами на ледовую переправу немцы не ограничивались. С не меньшей активностью они бомбили город и особенно вмёрзшие в лёд корабли Балтийского флота. Мы сбивали их десятками, но казалось, что самолёты у немцев не закончатся никогда.
В штабе авиаполка услышал историю о том, как молоденькая учительница начальных классов, совсем ещё девчонка, заняла место наводчика автоматической 37-милли-метровой зенитной пушки, после того как взорвавшейся неподалёку бомбой убило весь расчёт, и одной очередью сбила сразу два «лаптёжника». Говорили, что за это командование наградило отважного педагога большой банкой варенья.
Как бы там ни было, но немцы выдохлись. Интенсивность налётов снизилась, да и количество участвовавших в них самолётов тоже заметно уменьшилось.
Не знаю, чем бы всё закончилось, но непогода развела противников по разным углам ринга. А я смог выкроить время, чтобы навестить своих (а никак иначе я их уже не воспринимал) девчонок. Отпросившись у нового командующего ВВС Ленинградского фронта генерал-майора Рыбальченко [70], назначенного на должность взамен переведённого с повышением в Москву Новикова, до утра, пока метёт метель, прихватив гостинцы, я отправился к Светлане с Катюшкой.
Я стоял у развалин того, что совсем недавно было домом, где жили дорогие мне люди, и перед глазами у меня всё расплывалось. Возможно, это просто снег, подхваченный ветром, попал в глаза и там растаял. А перед внутренним взором стояли, почему-то в лёгких летних платьях, нежно улыбающаяся Светлана и радостно смеющаяся, счастливая Катюшка.
Подняв лицо в серое небо, по которому резкий балтийский ветер гнал тяжёлые свинцовые тучи, я едва сдерживался, чтобы не завыть по-волчьи. Завыть от тоски, сжавшей сердце, от безнадёги. Господи, если ты есть, то почему так несправедлив?! Почему допускаешь такие бедствия для людей?! Почему забираешь самых лучших и самых дорогих?!
Рука сама потянулась к голове, чтобы снять шапку, когда вдруг откуда-то сзади раздалось громкое:
– Папка!
– Илья!
Сердце пропустило один удар. Резко обернувшись, я увидел бегущих ко мне напрямую через сугробы Светлану и опередившую её Катюшку. Слава богу, живы! Наверное, только сейчас я понял, что такое настоящее счастье.