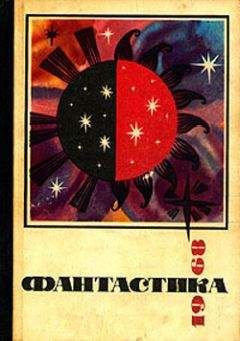Олег Верещагин - Очищение
Романов слушал. Мальчишка носком сапога толкнул верхушку сухого прошлогоднего репья. Помолчал. И продолжал:
– Когда я вот осенью одного такого насмешника встретил – я сперва не узнал. Не, он на мордень не сильно изменился, кстати, хотя два года прошло. Так… Сидит в углу папиного дорогущего пикапа и сжался весь. А его папа с мамой моему папке в ноги падают, по-настоящему: не прогоняйте, куда хотите ставьте, все делать будем… Ну а этот ко мне попал для ознакомления. Я сперва обрадовался – вот сейчас я на тебе оторвусь! А потом гляжу – а его и пинать-то как-то стыдно. В общем, опять у меня слов нет.
– Да и не надо, – ответил Романов. – Просто ненастоящий мир сдох, парень. А в настоящем – хозяин ты и такие, как ты.
– Я знаю… – Мальчишка задумался и неожиданно решительно продолжал: – Но мне их все равно жалко. Мы-то легко привыкли. А для них – представляете? – трагедией стало, что чат не работает. А когда канализация сдохла? – Мальчишка грустно усмехнулся. – Я и сам насмотрелся, и папка нарассказывал… Они же – что взрослые, что дети – как добыча для любого, кто взять не поленится. А по большому счету, мелкие чем виноваты? Тем, что взрослые им на блюдечке все тащили – хавай в три горла?
Романов задумчиво кивнул и снова окинул взглядом картофельное поле.
Подобные картины – пашущие от рассвета до заката на полях, в садах и огородах дети и подростки – для этих дней были зрелищем вполне привычным. Огромное количество разом осиротевших русских детей, спасшихся или спасенных, никто не собирался кормить даром под лозунгом «Дети – наше будущее!». Романов отлично понимал, что это – не лозунг, это на самом деле так, а значит, будущее должно быть надежным, без выкрутасов и необоснованных претензий. Единственное, в чем подрастающее поколение не было ограничено, – это в еде. Одежда, обувь строго дозировались – «никто еще не умер от того, что походил босиком или пришил на куртку заплату», развлечения вообще стали наградой для лучших, о «правах» предстояло забыть надолго – по крайней мере, до взрослости точно.
С точки зрения многих людей из прошлого мира, новое общество просто-напросто использовало рабский труд. Впрочем, лично Романов, учитывая психическое состояние носителей этой «точки зрения», считал, что линия выбрана совершенно правильная. Кроме того, его, если честно, смешили наблюдения за тем, как привыкали к такой жизни ставшие такими неуклюжими, беззащитными и беспомощными в реальном мире завсегдатаи чатов, знатоки английского языка и компьютеров, обладатели скутеров новейших моделей и ревнители многочисленных родительских обязанностей, многие из которых покупали новые стодолларовые кроссовки каждую неделю, «потому что старые испачкались». Со взрослыми было намного легче – подавляющее большинство из них так или иначе провели детство в реальном мире и теперь переадаптировались. Но дети были нужнее, дети, опять же, были будущим в любом случае – и приходилось с ними возиться, вкладывать ума через руки (и другие места) и объяснять реалии на практических примерах. Впрочем, многие из них реалии уже осознали во время наполненных ужасом скитаний по местам, где папочка и мамочка с телохранителями более не были защитой, а они сами превращались в объект охоты – и, попав сюда, нефигурально умывались слезами благодарности.
Романову было известно, что многие из «старичков» любят заниматься тем, что называлось «дрессировкой хомячков». Процесс был небезынтересный.
В какой-то степени случившееся с Россией многое расставило по своим местам. Сотни тысяч ощущавших себя «царями жизни» «среднеклассовцев», столкнувшись с реалиями этой самой жизни, обнаружили, что совершенно к ней не готовы и зависят от худо-бедно налаженной системы поддержки. Как только она рухнула – рухнули и их иллюзорная «власть» и «нужность». Грубый, желавший жрать и трахаться мир вломился в их уютные евронорки, которые хомячки так тщательно обустраивали, откровенно и публично-громко радуясь тому, что «проклятый совок» «с его никому не нужной стадностью» «сгинул», что теперь «каждый сам себе хозяин» (и каждый сам за себя). Они не знали, до какой степени ненавидят их – за педикюр для собачек, за прислугу, за двенадцать тысяч рублей, вставленных в рот в виде кусочка металлокерамики, – ненавидят не только гопники, но и те, кто на самом деле умел и любил работать – но не мог заработать ничего в хомячином мире и вынужден был на те же двенадцать тысяч в месяц содержать двух-трех детей и жену. И это была ненависть не «быдла» к «успешным» – нет; это была ненависть людей к простейшим. Без особого сочувствия читал, например, Романов доклады о том, как уборщики мусора прямо в кабинетах трахали, а потом убивали или превращали в рабынь «успешных бизнес-леди», «деловых акул», искренне считавших, что они могут управлять мужчинами где-то кроме искусственного мира офиса. В «новом мире» женщину начали ценить снова за умение готовить еду, растить детей и ублажать мужчину в постели…
Мужчины были просто-напросто сильней. Этим все и объяснялось. А среди разрозненных хомячиных толп, среди хомячиных самчиков, как бы накачаны и откормлены они ни были, мужчин было исчезающе мало. И у них просто брали – жилье, женщину, еду, детей, – а хомячки могли только в ужасе пукать перед смертью.
Нет, Романов их не жалел. Иногда это удивляло его самого. Умом он понимал, что происходящее ужасно. А ученые говорили: дальше на западе, особенно за Уралом, и вовсе царит настоящий ад. Как можно кому-то пожелать оказаться в аду? Чем оправдать ад?
Он и не оправдывал. Однако он ненавидел тот, сгинувший, мир. Ненавидел до синевы в глазах, до тумана в мозгу, до кислоты во рту и белых костяшек пальцев. Ненавидел – и радовался его краху…
Но часть хомячиных стад – те, кто поумней, или просто волей случая – разбежалась из городов по окрестностям еще до начала короткой ядерной войны. Многих из них прибило жизненными бурями сюда. Особенно большой поток шел в конце осени и начале весны… Их проверяли. Начиналась проверка просто – выясняли, есть ли у хомячков дети, и если дети не с ними, то где они? Если хомячок или хомячиха (или их пара) не могли внятно объяснить, как ухитрились «посеять» детей, врали или еще как-то запирались, то таких «рассеянных» ждала печь для переработки в пепел – отличное удобрение. Если детей не имелось вообще, они были с хомячками или реально погибли либо пропали по не зависящим от хомячков причинам, то новеньких на общих основаниях определяли на жительство. Именно на общих, без всяких издевательств или дискриминации. Но дело в том, что начальным этапом для всех была самая неквалифицированная работа в сельском хозяйстве с проживанием в общаге. Семь из десяти хомячков начинали бунтовать именно на этом этапе – вспоминая свои заслуги, положение, премии, чины и оклады. Слушать это было иногда смешно, иногда – скучно. Чаще взрослых бунтовали опять же их отпрыски – частенько искренне продолжавшие считать, что им все должны, в том числе и родители. В таком случае хомячиную мелочь просто и деловито пороли на площади, а потом определяли на пару дней на хлеб и воду, плюс тяжелые работы. Тех, кому это не помогало, Романов мог пересчитать по пальцам одной руки. Таких после второго закидона на недельку подселяли уборщиками к кадетам. Дольше первой ночи не взбрыкивал никто, больше пары зубов и раздутого самомнения тоже никто не терял. Большинство же хомячков любого возраста довольно быстро приходили в чувство от столкновения с реальностью вроде компостной ямы или обычной огородной грядки – и становились на удивление нормальными людьми.
Ради справедливости следовало отметить, что хомячки и изначально все-таки бывали разные, и некоторые хомячками только казались. Один, например, привез в «Газели» своей почившей фирмы не только своих детей, но и чуть ли не дюжину подобранных по дорогам. Другая… да что там, с одной из «других» у Романова было связано, наверное, самое светлое за последние двадцать лет…
Хуже всего, впрочем, было в конце осени – начале зимы, когда изо всех уцелевших городов, в которых вдруг кончились еда, вода, канализация, отопление и свет, хлынули чудовищные потоки дерьма. Худшего варианта дерьма – не сдерживаемого ни религией, ни моралью, ни теперь уже даже хиленьким законом. Потоки дерьма разливались по округе в одном только истеричном желании: жрать. За жратву они могли сжечь деревню или убить ребенка. А могли и съесть. Случаи уже были.
К счастью, дерьмо не умело объединяться, этот навык был прочно утрачен в прошлой жизни – не было даже шакальих стай, так – временные группки для грабежа, которым легко могли дать отпор, несмотря на их многочисленность, даже небольшие и мало-мальски вооруженные сплоченные группы. Патрули же Романова просто-напросто направляли потоки дерьма в один из трех СЛ – сортировочных лагерей, – где день и ночь шла работа: от первоначальной – отделения мужчин старше 16 лет от прочих, потом – женщин старше 16 лет с их детьми младше пяти – до финальной стадии: распределения. Большинству семей позволяли воссоединиться и направляли на житье и работы на обычных условиях. Но часто дерьмо просто и не вспоминало о «семьях». Многих ликвидировали – бесполезных и откровенно не желающих стать полезными существ, мародеров, людоедов, насильников, просто откровенных подонков. Другие превращались в «лишенных человеческих прав слуг государства» – с перспективами пересмотра их судьбы в дальнейшем; дети передавались все в те же рабочие школы или в распоряжение поселковых советов, избранных в каждом поселении.