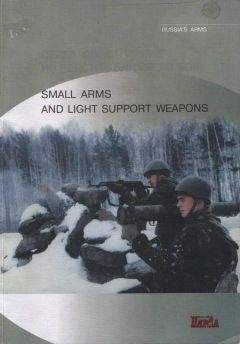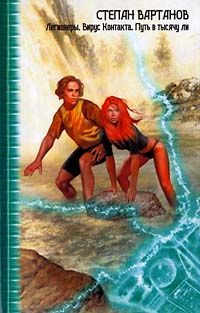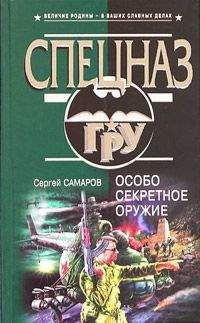Александр Бушков - Золотой Демон
К нему неожиданно приблизился Панкрашин, брюзгливо пожевав губами, взял за локоть и повел в сторонку:
— Милейший, позвольте вас на пару слов…
— Да? — сказал поручик настороженно…
— Я бы вам посоветовал не сердить его высокопревосходительство…
— Какое еще превосходительство?
— Ну, не будьте ребенком. Вы же прекрасно понимаете, что я имею в виду Ивана Матвеича…
— Ага, — горько усмехнулся поручик, — он для вас, стало быть, уже высокопревосходительство…
— В некотором смысле, — сказал Панкрашин. — Почему бы и нет? С большими планами человек, можно даже сказать, с грандиозными. Заслуживает уважения и, я не побоюсь этого слова, почтения… Перспективы прямо-таки феерические…
— Человек?
— Ох, да не цепляйтесь вы к словам! Какая, собственно, разница? Если он, я уверен, способен эти планы претворить в жизнь — а следовательно, и принести немалую выгоду тем, кто будет ему полезным сподвижником… Аркадий Петрович, я понимаю, что вы человек молодой, горячий, в голове у вас всякие романтические идеалы и тому подобная мишура — только ею сыт не будешь. Тем более что ситуация крайне усугубилась, и всем нам, как видите, может быть очень плохо… Короче говоря, бросьте вы байронического героя изображать. Вам ведь Иван Матвеич объяснил, как надлежит поступить? Извольте уж выполнять. Женщины, в итоге, — материя легковесная и несерьезная. У вас их еще будет столько, таких, что и сравнивать смешно…
Поручик смотрел на него, задыхаясь от ярости. Самое страшное, что говорилось все это бесстрастным, спокойным тоном, и лицо у Панкрашина было обыденным, ничуть не напоминавшим физиономию мелодраматического злодея. А глаза были совершенно пустые, как две дырочки в какой-то иной мир, где человеческие чувства не в ходу. «Он ведь не обморочен, — в некоторой даже панике подумал поручик, он в собственной воле и разуме пребывает и нисколько не противоречит его натуре то, что он говорит…»
— Ах, вот он вас на что уловил… — проговорил поручик зло. — Золотишко, звезды, карьера…
— Человеку свойственно устраиваться поудобнее. И…
— А позвольте-ка, Аркадий Петрович, — сказал Самолетов, бесцеремонно его отстраняя. — Тут надо не по-дворянски, а попроще… Какое, к свиньям благородство…
Не особенно широко и размахнувшись, он сшиб Панкрашина в снег могучим ударом кулака. Потряс ушибленной рукой, сказал с нехорошей расстановкой:
— Разинешь пасть — пришибу паскуду…
Панкрашин лежал в снегу, не пытаясь подняться, зажимая рукой разбитые в кровь губы.
— Па-апрашу расступиться!
Ямщики торопливо разомкнулись. Показался есаул Цыкунов, о котором в последние дни даже как-то стали забывать, потому что он безвылазно сидел в возке. Он шагал решительно и как-то церемонно, словно вел роту на парадном плацу, — и на сгибе левой руки у него висело то самое длинное платье из неизвестного красноватого материала, поблескивавшего золотистым отливом. Следом с винтовками в руках шагали три его казака — со смурными недовольными лицами. «Ах, вот оно что, — подумал поручик, нашаривая кобуру. — Вот в чем он увидел свое единственное спасение после пропажи казенного золота…»
— Руку уберите! — рявкнул есаул, целя поручику в голову из своего «смит-вессона». — Вот так оно лучше будет… — он полуобернулся к казакам: — Взять его, живо!
В тяжелом молчании, нарушавшемся только храпением лошадей, мелькнул приклад армейской винтовки Бердана номер два — и опустился на руку есаула с револьвером. Не ожидавший этого есаул скрючился, зашипел от боли, схватившись левой рукой за ушибленное запястье правой. Ударивший его казак, самый старший из троицы, сказал без выражения:
— Неправильно получается, ваше благородие…
И отбросил носком подшитого валенка револьвер подальше в снег. Мотнул головой — и двое его сослуживцев бросились к согнувшемуся есаулу, выкрутили руки, принялись спутывать тонким ремнем. Шагнув вперед, казак сказал звенящим от возбуждения голосом:
— Господа офицеры, подтвердите, ежели что, господин есаул вошел в совершеннейшее помрачение ума от водки.
— Уж это непременно, — кивнул опомнившийся первым ротмистр Косаргин. — Спасибо, братец…
— Да чего там, — ответил казак, как-то болезненно морщась. — Нешто ж мы некрещеные люди?
Диковинное платье ярким пятном посверкивало на утоптанном снегу, и скручивавшие отчаянно отбивавшегося есаула казаки старались на него не наступать. Поручик облегченно перевел дух. Панкрашин наконец поднялся на ноги и, косясь на грозно нахмурившегося Самолетова, зачем-то пригибаясь, побежал трусцой к позинскому возку.
— Началось, а? — тихо сказал Самолетов. — Смотрите в оба, Аркадий Петрович, кадриль, чует мое сердце, разворачивается на полную… Эй! Ноги, ноги ему тоже свяжите, а то хлопот с ним будет…
— Господи ты боже мой! — вдруг взвыл Мохов. — Ну за какие грехи мне все это? Чем я Бога-то прогневил?
Самолетов ощерился:
— Ты-то, может, и не прогневил, а вот твой батька, столько лет на тракте озорничавший…
— Так ведь с твоим батькой за компанию! — плачущим голосом выкрикнул Мохов. — Скажешь, нет?
— Ну, не без того… — сумрачно сказал Самолетов. — Так ведь я не стенаю…
— Что делать прикажешь? Ведь сожрут… Флегонтыч… Аркадий Петрович…
— Ты уж лучше помолчи, Ефим Егорыч, — сказал Самолетов. — А то, неровен час, договоришься до чего-нибудь такого, что возьму грех на душу. Я ведь кое в чем, знаешь ли, в батьку…
— Аника-воин, Еруслан-богатырь… — с горькой насмешкой процедил Мохов, — накинулся на старика… Ты вон с ними поговори, вояка. Не хочет народец впустую погибать…
Все обернулись туда, куда он показывал. От хвоста обоза двигалась немаленькая толпа, там, пожалуй, были все ямщики, сколько их ни насчитывалось в обозе. Продвижение их смотрелось несколько странно: они словно бы и спешили, но в то же время опасались приближаться слишком быстро — то кидались вперед, то притормаживали. Послышался чей-то властный голос, явно побуждавший их двигаться ретивее…
— Так-так-так… — процедил Самолетов, — следовало ожидать…
Показался японец в сопровождении торчавшего за плечом неотлучного переводчика. Он выглядел так, словно собрался на войну: за кушак с висящей на нем саблей заткнуты два револьвера и нечто наподобие короткого кинжала, в руках винчестер.
— Канэтада-сан говорит, что предоставляет себя в полное ваше распоряжение. Канэтада-сан говорит, что с негодованием отверг сделанные ему заманчивые предложения, потому что благородному человеку не пристало становиться сообщником демона…
— Приятно слышать, — без улыбки сказал Самолетов. — Переведите там, что мы высоко благородство ценим и всякое такое… Ах ты ж, сволочь! Ну конечно, кому еще в здешние Наполеоны лезть…
Поручик догадался, о чем он. В первых рядах неспешно, но неотвратимо надвигавшейся толпы суетился Кондрат — он покрикивал, ободрял, тыкал ближайших кулаком в затылки, одним словом, поддерживал боевой дух, как мог…
— Господа! Господа! Это у нас что, бунт?
Четыркин, распространявший запах свежевыпитой водки на три аршина вокруг, взирал на подступавших без всякого страха, с дурацким любопытством.
— Никшни, чадушко, — могучим толчком отпихнул его с дороги отец Панкратий, сноровисто державший охотничью двустволку, — а то сейчас придется псалтырское увещевание давать, ненароком угодишь под дискуссию…
Поодаль маячила матушка, испуганная, со слезами на глазах. Судя по всему, ей очень хотелось укротить боевой порыв супруга, но сразу видно, полагала это безнадежным предприятием…
Толпа приближалась.
— Ну, поскольку я тут старший по званию… — кривя рот, проговорил ротмистр Косаргин. — Слушай мою команду, казачки — на изготовку…
Саженях в десяти толпа остановилась. Злые, испуганные, напряженные лица, кое-где поблескивают ружейные стволы…
— Прикажите, ротмистр, взять винтовки к ноге, — не поворачивая головы, сказал Самолетов, державший руку под шубой. — Не стоит так уж сразу Бородинскую битву учинять…
После некоторого колебания ротмистр все же распорядился:
— К ноге…
— Эй, орясины! — рявкнул Самолетов. — Вы что это надумали? Не время озоровать…
Кондрат решительно выступил вперед, на пару шагов от толпы. В правой руке он держал охотничье ружье, в левой — еще одно переливчатое платье.
— Николай Флегонтыч, не балуй, — сказал он спокойно и твердо. — Против общества переть не советую. Кишка тонка. Бросьте-ка вы ружьишки и все прочее, барские господа, а то шутить ведь не будем… Мы тут посовещались и решили, что не стоит оно того. Из-за одной-единственной девки погибать тьме христианского народа — это получается насквозь неправильно. У всех жены, дети, нам еще пожить требуется…