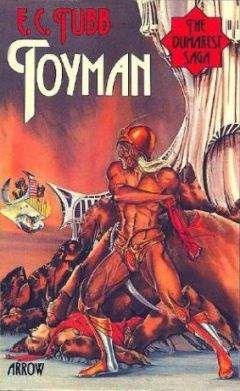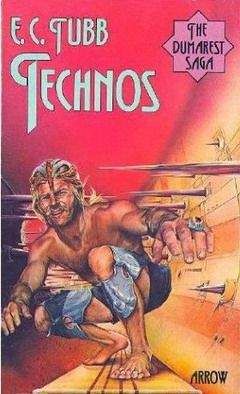Эдвин Табб - Майенн
Он ответил горько, не раздумывая:
— Майенн была живой, настоящей женщиной. Она решила убить себя, умерла. Говоря понятным тебе языком, она не выполнила своих функций.
— Но зачем и почему она поступила так? Ее действие не имело причины и необходимости. Разрушать себя — алогично.
— Люди почти всегда поступают алогично, как тебе должно было стать известно, Тормайл. Майенн ушла из жизни, потому что прекрасно поняла твои намерения и не пожелала стать «матрицей» своего собственного дубль-двойника.
Хотя, может, тут сыграло свою роль и чувство вины, стыда, предположил он, она не хотела опуститься в его глазах, не могла вынести его молчаливые упреки и сомнения. Она умерла, чтобы дать ему свободу выбора, не висеть грузом, осложняющим принятие решений, выбор достойных поступков.
Дюмарест медленно подошел к кусту роз, усыпанному распускающимися бутонами, ощутил их дурманящий аромат, вспомнил Майенн такой, какую он любил: нежную, чуткую, отдающую и живую. Потом глухо вымолвил:
— И потому, что она была очень гордой.
— Гордой?
— Это еще одна человеческая черта характера, которую тебе не дано понять. В каждом человеке — мужчине или женщине — есть нижняя точка отсчета, за которую они стараются никогда не переступать, чтобы не терять уважение к себе, к своему «я». Эта черта — для каждого своя, но она присутствует незримо, предупреждая и крича «стоп!», если человек зарывается, перебирает, забывается. И если человек преступает свою отмеренную черту, он теряет самоуважение, понимая, что с этого момента перестает быть человеком, которым был рожден. — Дюмарест помолчал и спросил. — Как ты намерен поступить со мной, Тормайл?
— Ты знаешь все мои желания, Эрл. Тебе ни к чему спрашивать.
— Но я отнюдь не игрушка, Тормайл.
— Зови меня Майенн. Я стану твоей Майенн, ты полюбишь меня.
— Нет, — ответил он резко, — неужели ты не чувствуешь, что эксперимент окончен? Ты узнал все, что намеревался, а теперь — хватит играть. Будь логичным, Тормайл. Здесь нет никого, кроме меня, кого бы ты сумел использовать в своей темной игре. Женщина, которую я любил — мертва и, умерев, она дала мне свободу.
— Называй меня Майенн.
— Я называю тебя твоим, а не чужим именем. Бездушная, механическая машина, которая вдруг странным образом столкнулась с малой группкой людей: их сложными судьбами, желаниями, слабостями и страстями. Неужели ты до сих пор не осознал, насколько парадоксальна, нежизненна эта ситуация? Ты, мощнейшее электронное создание, просишь меня — смертного, слабого человека — о любви? Неужели ты напрочь забыл о своей логике? О гордости?
Она молчала довольно долго, потом печально посмотрела на него:
— О гордости?
— Ведь я — мужчина; неужели ты полагаешь, что я счел бы возможным молить о взаимной любви, скажем, муравья? Я мог бы кормить его, играть с ним, ласкать, приставать к нему. Я мог бы причинить ему боль, даже убить его; но все, что бы я ни сделал с ним, не могло бы мне помочь в одном: он не мог бы дать мне любви. Даже если бы я вдруг смог стать похожим на него. В этом есть еще одна сторона: ни один экспериментатор, ставящий подобный опыт, не имеет права дать вовлечь себя в этот опыт методом полного перевоплощения. Это не даст реальных, полных результатов.
Она помолчала, потом тихо и печально сказала:
— Ты говорил о здравомыслии, Эрл, а отнюдь не о гордости. Кто ты есть, чтобы пытаться понять всю глубину моих причин? И как ты можешь во всей полноте почувствовать, в чем именно я нуждаюсь?
Узник, одинокий заключенный, раб протоплазмы, взывающий в космическую пустоту о горячей любви. Этот одинокий пленник настолько могуществен, что способен превращать друзей — во врагов, людей — в скорпионов и пауков, делая вид, что стал их другом, а реально — управляя всеми их поступками, словно марионетками. Но любовь слишком далека от этого; она совсем не похожа на притворство, силу, могущество…
Сумасшествие, в который раз подумал он. Слабоумие, отклонение от нормы, слепота, которая может обратить все живое в мизерное, ничтожное существо, которое можно просто стереть с земли, словно по мановению волшебной палочки, по минутной прихоти создателя.
Он медленно произнес:
— Ты предпочел появиться в обличии женщины, Тормайл, поэтому позволь мне обращаться к тебе именно исходя из этого. Майенн — мертва, поэтому у тебя нет причин ревновать меня. Что остается? Я вижу в тебе слабое, плачущее, постоянно молящее о любви создание. У самой дешевой проститутки в самом низкосортном доме терпимости я видел больше гордости, чем у тебя. Ты слышал, как Мари называла женщин, которые сами платят за любовь?
Эрл увидел, как передернулось от боли лицо Лолис, как вдруг потемнели страдающие глаза; он знал, какую рану нанес ей, какую боль причинил.
— Остановись, Эрл, я молю тебя.
Он рассмеялся, стараясь придать своему смеху и голосу как можно больше презрения, сарказма, мужского превосходства:
— Неужели правда так болезненна, Тормайл? Я полагал, что ты именно этого добивался: голой, холодной правдивости. Но, похоже, ты уже не в силах вынести подобное. Ты был в одиночестве слишком долго. Предоставленный сам себе, ты стал больным, душевнобольным. Я угадал?
Дюмарест услышал тяжкий, прерывистый вздох, полный муки и страдания; несколько листков, шурша, упали на землю с ближайшего дерева, словно ветер, потерявший вдруг силу, не смог продолжить начатое дело.
Лолис прошептала тихо:
— Я могла бы уничтожить тебя, Эрл, за твои жестокие слова, но я только прошу тебя: перестань говорить так…
— Да, ты легко можешь убить меня, но что ты докажешь этим? Что ты сильнее меня? Мы оба и так прекрасно знаем об этом. Что ты умней? Но я так не думаю. Если ты убьешь меня, то ты докажешь только одно: что ты проиграл. Что ты просто бессилен понять обычное чувство, знакомое всем живым людям, что твой эксперимент потерпел неудачу, и что люди, погибшие в нем, умерли зря. — Дюмарест чувствовал, как изнутри поднимается ненависть, злоба, ярость. — Мари, братья. Лолис и бедный Горлик! Майенн!
— Ты ненавидишь меня, — она произнесла это, словно удивившись, — ты действительно испытываешь ко мне только чувство сильнейшей ненависти.
Эрл взглянул на свои руки: они были судорожно сжаты в кулаки, костяшки пальцев побелели от напряжения. Он вымолвил тихо и яростно:
— Я ненавижу тебя за то, что ты сделал со всеми нами. Если бы ты был живым человеком, я бы просто убил тебя.
— Как ты убил Харга?
— Нет. Он страдал и мучился. Тогда все было иначе. Но тебя я убью не так. Я сделаю это твоими собственными руками. Ты уже слишком глубоко отравлен различными чувствами, эмоциями, которые точат, гложут, разрушают твой мозг. Это — реальный факт, так что же остается? Бесконечное сожаление, муки, тоска о том, чего ты никогда не сможешь иметь. Вечный поиск недостижимого, неизвестного. Мне даже в чем-то жаль тебя, поверь.
— Жаль?
— Это человеческое чувство, которое ты еще не выяснял в процессе опытов. Милосердие, внимание, доброта к слабым и беззащитным. Когда-нибудь, возможно, тебе тоже все это потребуется.
Она стояла неподвижно, красивая неповторимой красотой Лолис, но неуловимо повторяя всю глубину и своеобразие облика Майенн; свет небосвода превратил ее волосы в пылающий огненный костер. Потом вдруг эта красота поблекла, словно съежилась…
— Жалость… — тихо, словно плача сказала она, — это действительно ужасно, что ты жалеешь меня.
Он напрягся, ожидая последующего.
— Жалость! — снова, словно пытаясь справиться с внутренней болью, произнесла она, повторяя, — жалость!
Потом она мгновенно исчезла; вместе с ней провалились в небытие деревья, цветы, скалы. Эрл почувствовал, что почва стала неустойчивой, земля словно дрожала под его ногами, сдвигая почву, камешки, песок. Небо потемнело, словно вдруг опустилась ночь, воздух легкой струйкой стал просачиваться куда-то во внешнее пространство, в космос.
Дюмарест почувствовал, как неведомая мощная сила подняла его, оторвав от земли, и выбросила в космос, который засасывал все с планеты Тормайла, как мощный насос, как черная дыра…
* * *Над горизонтом низко висело вечернее солнце, его лучи яркими пятнами падали на землю сквозь густую листву деревьев. Дюмарест пристально всматривался во все оттенки такой живой природы, не веря еще полностью, что это явь, а не сон. Он лежал на земле, чувствуя легкое головокружение, боль в горле, груди и в каждой клеточке измученного тела.
Он смутно вспомнил сильную давящую струю воздуха, поднявшую его с планеты Тормайла вместе с водопадом камней, песка и пыли. Тормайл все-таки освободил его, доставив на эту планету, похоже, обитаемую. И ему это стоило не большего усилия, чем сдвинуть с места и перебросить на другое какую-нибудь ничтожную букашку, муравья. Что это было? Жалость? Милосердие? Кто мог теперь объяснить все происшедшее? Хотя, не задумываясь о причинах, можно было признать реальный факт: планетарный мозг спас ему жизнь.