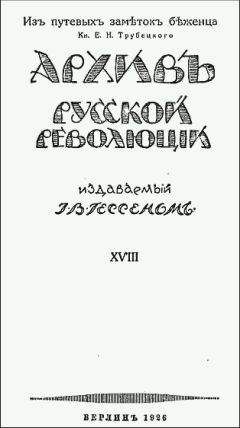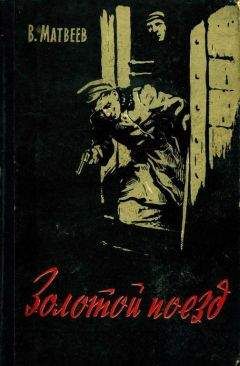Владимир Михайлов - Хождение сквозь эры
До того мне казалось: если книга уже возникла в голове, то осталась чистая техника – сесть и переписать на бумагу. Благо – стучать на машинке я научился ещё в бытность свою техническим секретарём.
И только начав, я понял – какая пропасть пролегает между головой и рукой, которой приходится всё то, что пока существует в виде образов, порой достаточно неясных, преобразовывать в слова.
Это тяжело и до конца неосуществимо даже в принципе: каждое слово – ступенька, как и каждое число – тоже ступенька. Но если между числами существует множество промежуточных ступенечек – десятые, сотые, миллионные, миллиардные доли, так что лестница цифр может быть почти превращена в пандус, где ступенек нет, – то между словами такое перетекание из одного в другое невозможно. Поэтому слова никогда не передадут того, что существует в форме образа, со всей точностью. Но даже чтобы приблизиться к ней, нужно использовать множество слов, а рука этого не хочет. Рука поначалу была бы согласна обойтись лексиконом Эллочки-людоедки. Она от природы ленива. И чтобы она не подсовывала вам, изображая на бумаге, первое попавшееся, плавающее на поверхности слово, её нужно долго дрессировать. Разрабатывать. Расписывать. Рука важна для литератора не меньше, чем для пианиста или скрипача. В идеале она должна быть проводником с нулевым сопротивлением. Иногда она такой и становится – тогда говорят о вдохновении или просто о том, что «текст попёр вдруг». Но для этого её нужно сначала выдрессировать. И, как всякая дрессировка, процесс этот требует времени. Вот почему всем, кто когда-либо спрашивал моего совета, я старался внушить: терять время нельзя. Оно ограничено, его надо использовать по возможности полнее…
Но, как сказано, когда я получил военкоматскую повестку, я об этой стороне литературного ремесла не знал ничего.
В последний вечер перед явкой я – уже остриженный под ноль – зашёл в пивную. И там на меня налетел мужик, которого я узнал не сразу: тот самый, кого я избавил от двадцатилетнего срока. Он был демобилизованным лётчиком в звании капитана. Мне же ещё только предстояло стать рядовым.
С ним я и отметил своё убытие к месту прохождения службы.
До сих пор не могу понять одной вещи.
Всю жизнь любил и продолжаю любить остросюжетную, как её теперь называют, литературу – приключенческую и детективную. Читал и читаю такие книги с удовольствием (хотя не все, конечно). Почему же, имея какой-то опыт следственной работы, хорошо разбираясь и в милицейских делах (вся оперативная работа всегда лежала на милиции, и что бы смог сделать без неё единственный следователь в уезде, а потом – районе?), – почему я ни тогда, по горячим следам, ни когда-либо потом не попробовал даже написать ни одного детективного рассказа, не говоря уже о вещах покрупнее? Другое дело, если бы пытался, но не получилось; могло ведь быть и так. Но даже и не начинал ни разу. Отчего?
Может быть, потому, что мне, как оказалось, куда легче выдумывать, чем пользоваться материалом, почерпнутым в реальной жизни? Иными словами, я сочинитель, а не бытописатель? И романтик, а не реалист? Может быть, да, а может быть, и нет.
Хотя – какая разница? Не всё, что оставляет след в жизни, возникает потом в литературе. Кто-то лучше знает – что нами писать.
2. Протерозой
Служил я в БВО – Белорусском военном округе, а точнее – в шести километрах от тогдашнего Минска. Тогдашнего – потому что сейчас места эти вроде бы уже вошли в состав города. Дивизия располагалась по обе стороны Московского шоссе и считалась «столичной»: 1 мая и 7 ноября проходила парадом перед руководством республики и округа. По месяцу перед каждым парадом уходило на строевую подготовку, начинали всякий раз с азов – с одиночной подготовки. Вышагивали строевым. Потом маршировали шеренгами, потом – «коробками»: десять шеренг по десять человек в каждой. В эту пору уже выходили на шоссе, на несколько часов перекрывая движение: транспорт пускали в объезд. Год состоял из двух периодов: зимнего, в казармах, и летнего – в лагерях, в палатках. В полку два батальона занимались боевой подготовкой, третий тем временем строил ДОСы – дома офицерского состава.
В армии был порядок. Никакой дедовщиной тогда не пахло; к молодым относились хорошо, понимая, что не может человек (за редкими исключениями) сразу стать солдатом; для этого нужно время и терпение. Немалую часть сержантов тогда составляли фронтовики, умевшие учить настойчиво и не грубо, понимавшие службу в такой степени, в какой её вообще можно понять, потому что в ней всегда было и будет что-то иррациональное, что постигается не рассудком, а подсознанием. А каковы сержанты, такова и вся армия.
Основная часть моей службы прошла в пулемётной роте. Сперва меня сделали там писарем: грамотеи в пехоте всегда ценились. Я, правда, по инерции предпринял попытку использовать свою небольшую юридическую квалификацию: секретарь дивизионной прокуратуры должен был демобилизоваться, ему сказали, что отпустят тогда, когда он найдёт себе замену. Узнав, что на гражданке я работал следователем, он обрадовался. Но не тут-то было: особый отдел в два счёта докопался до недостатков моей биографии и сказал своё веское «нет». А на «нет», как известно, и суда нет, а есть Особое совещание, как бы оно ни называлось.
Писарская моя карьера закончилась достаточно нестандартно. Принято считать, что писарь – «придурок» – никакими солдатскими добродетелями обладать не может, поскольку в то время, как другие занимаются строевой, огневой и тактической, он припухает в ротной канцелярии. И хотя стрелять я умел с ранней юности и всегда любил, в это по инерции никто не верил, результаты мои на стрельбище как-то проходили мимо внимания. Поэтому осенью, во время инспекторской поверки, когда стрелять должно было сто процентов личного состава, командир роты сказал мне:
– Будете стрелять последним, передо мной. Вы упражнения, конечно, не выполните, поэтому я пойду после вас, чтобы сгладить впечатление.
Стреляли из станкового пулемёта первое БОС – упражнение боевых одиночных стрельб. Надо было, ползя по-пластунски и толкая перед собой «тачкой» пулемёт, вдвоём с помощником наводчика выдвинуться на огневую позицию. Имея в ленте шестьдесят патронов, поразить сначала пулемёт противника (грудная мишень и две «головки»), на то, чтобы разглядеть возникающие в траве мишени, навести пулемёт и открыть огонь, давалось, уже точно не помню, кажется, секунд двадцать. Потом следовало перенести огонь на танк с десантом на броне и расстрелять десант, шесть фанерных прямоугольников на макете танка, который двигался под углом, так что виден был не в профиль, а примерно в три четверти. Четыре «квадрата», как их, вопреки геометрии, называли, давали отличную оценку. Но если наводчик не успевал поразить первую цель, ко второй его не допускали.
Если бы от меня ждали хорошего результата, я, наверное, волновался бы куда больше. Но было известно, что промажу, и поэтому я был почти спокоен. Первую цель увидел сразу, дал три коротких очереди, патрона по три – и мишени, крутнувшись, утонули в траве ещё до того, как время истекло: значит, поражены. Где появится из-за песчаного вала танк, было известно. Я навёл с упреждением и пустил по нему длинную очередь. Когда он прошёл, повернул пулемёт и снова выпустил очередь – насколько хватило патронов. Выкрикнул, докладывая: «Сержант Михайлов стрельбу окончил!». Мы вернули «Горюнов» на исходную. По телефону сообщили результат: «Шесть квадратов, восемнадцать пробоин!» Лучшая стрельба в полку.
Ротный вышел на огневой рубеж последним, со старшиной роты в качестве помнаводчика. И не смог поразить первой цели. Вероятно, переволновался. Получил баранку. Меня же все поздравляли: за такой результат на инспекторской законно полагался краткосрочный отпуск – десять суток без дороги.
Отпуска я не получил. Поехал другой. Он был хорошим солдатом, но всё же я отстрелялся лучше! Я решил, что это несправедливо. И что надо что-то сделать, взять какой-то реванш.
Всё сделалось почти без меня: на другой, помнится, день командир полкового хозвзвода, старший лейтенант, подошёл ко мне: «Сержант, ты не хочешь съездить в командировку? Я формирую команду – сопровождать эшелон с демобилизованными. Нужен писарь: составлять меню-раскладки, учитывать продукты и прочее». – «Куда везти?» – «Ребята из Закавказья, эшелон до Баку». Я согласился, не раздумывая.
Через день или два поступило приказание командира дивизии: сформировать команду. Мой ротный получил выписку. Примчался в штаб полка. Я там как раз получал документы, стоял в сторонке, и он меня даже не заметил. Сразу же накинулся на ПНШ по строевой: как это – без его ведома и согласия? ПНШ помолчал, потом спросил: «Вы хотите, товарищ майор, чтобы я попросил командующего отменить приказание? Или что?» Майор поморгал, махнул рукой, повернулся и выбежал.
Путешествие было приятным. Вагоны, понятно, были типа «сорок человек или восемь лошадей» – старые, двадцатитонные; один из них был отведен под склад – там, вместе с крупами, буханками и консервами, ехали и мы вдвоём: кроме меня ещё кладовщик, латыш того же призыва, что и я, из Елгавы. Я ежедневно составлял меню-раскладку, вёл счёт израсходованного: за всё это потом предстояло отчитаться. Кладовщик выдавал, повара исправно варили; но у ребят в теплушках хватало и своего: закавказцев родня всегда обеспечивала посылками, и наше меню успехом не пользовалось. Мы просили их лишь об одном: чтобы казённые миски они не выкидывали по дороге из теплушек – миски были материальной ценностью. Ехали мы не споро, дорога заняла, помнится, около двух недель. Наконец, прибыли на станцию Баладжары, близ Баку, где размещались большие военные склады; там эшелон расформировали, армяне, грузины, азербайджанцы разъехались по домам. Мы – команда – провели в Баку дня два или три; там было тепло в ноябре, мы ходили и любовались, знакомились с девушками. Потом получили проездные литеры и в часть возвратились уже обычным пассажирским поездом, куда быстрее, чем ехали сюда. В Минске было снежно и морозно, предстояла ещё одна зима.