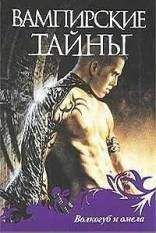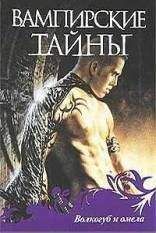Владимир Березин - Путевые знаки
Это новое средневековье, о котором так долго говорили. Ну ты не знаешь, но поверь, что говорили. И это гораздо более простая цивилизация, чем была. В ней есть все те же связи начальник — подчинённый, но теперь это хозяин — работник. Марксизм — ты не представляешь, вообще, что такое марксизм, но поверь, моё поколение всё было на нём воспитано… Так вот, марксизм снова стал настоящим, мир — понятным. Вот они, вот мы. Вот еда, а вот одежда.
— Но так нельзя жить долго. И я читал про марксизм.
— Ну почему нельзя? Впрочем, что считать — «долго»? Что для нас это «долго»?
— Если ты говоришь о марксизме, то количество должно перейти в качество.
— Это не марксизм. Это в тебе от невнимательного чтения. Переход количества в качество — это Гегель, диалектика…
— Ну хорошо. Гегель. Но что-то должно случиться.
— Да понятно что, должен случиться выход на поверхность.
— Или нас съедят какие-нибудь монстры.
— Ну вот подумай, зачем монстрам нас есть? Что им в нас? Что такого мёдом намазанного в людях, что спаслись в метрополитене? Отвоевать у них метро? Но если разумные мутанты, да и неразумные, жили двадцать лет у себя, даже в случае дельта-мутации, какой им резон лезть под землю? Я могу предположить, что самые разумные из них ищут с нами контакт. Может, они хотят с нами сосуществовать.
— Мы всегда можем предположить самое фантастичное. Например, что самые разумные нас рассматривают как деликатес. Устроят фермы, будут нас разводить, как свиней…
Потом мы обсудили слухи о Курчатовском институте. Там, рядом со станцией «Октябрьское поле», был целый город, причём с одной стороны смыкавшийся с убежищами и подземными помещениями Главного разведывательного управления на Хорошёвском шоссе, а с другой — с Курчатовским институтом.
Говорили, что вчера на дальних рубежах была стрельба, и кто-то, видимо, хотел прорваться к нам.
— Ты ведь знаешь, откуда у нас возможность выращивать чудо-зерно? — спросил меня кто-то.
Это, в общем, все знали, да только никто не говорил. То электричество, что круглосуточно освещало наши плантации, было произведено той же силой, что загнала нас под землю.
Оно приходило из вновь пущенных реакторов Курчатовского института, и у нас на станциях в нём недостатка не было.
А поскольку времени было много, то я пристрастился читать именно в этом дармовом свете.
В Курчатовском институте работало два реактора, и с людьми, жившими там, существовало специальное соглашение. Понятно, что не патронами с ними расплачивались, существовала сложная система взаимозачётов.
Ходили слухи, что рядом с Москвой находятся гигантские склады дизельного топлива, до которых никто не добрался в первые пять лет после Катаклизма. А потом оказалось, что оно испортилось. Его пытались облагородить и фильтровать, да только ничего из этого не выходило. Энергия дизель-генераторов оказалась вещью дорогой, с топливом что-то химичили, да, по-моему, недохимичили.
Топливо расслаивалось на фракции, выпадали в осадок какие-то смолы, забивались тонкие патрубки двигателей, в общем, какие-то сложности все время возникали с этими запасами топлива. Кто-то говорил мне, что дешевле построить нефтеперегонный завод, но для этого нужно было замириться всем москвичам, а воли разом окончить междоусобицу ни у кого не было. Ишь, чего захотел, нефтеперегонный завод…
Говорили, что мифические бауманцы, жители инженерных подземелий на северо-востоке, придумали какую-то технологию оживления не только солярки, но и вконец потерявшего свойства бензина! Да где те бауманцы? Спаслись ли какие инженеры из огромных институтов в районе «Бауманской», никто точно не знал. Были ли они на самом деле? Не известно.
Ничего-то нам было не известно.
Но, несмотря на неизвестность, меня давно не удивлял этот мир, который менялся от километра к километру, наконец окончательно оформляясь на новой станции в мир, иногда внешне похожий, но уже совершенно другой. Например, я легко мог по запахам отличить «Динамо» от «Аэропорта», не говоря уж о мире «Сокола» с его гигантскими пространствами и удивительными зверофермами.
Чистенькие жители «Динамо», бойцы портновского фронта, жили совершенно иначе, нежели свинари с «Сокола». И дело даже не в том, что «Динамо» была станцией глубокого заложения, а, скажем, «Аэропорт» строился открытым способом, дело было не в размерах подземных городов, которые, конечно, не ограничивались перегонами и станциями, а тянулись далеко в стороны, вдоль подземных рек, закованных в коллекторы, по заброшенным коммуникациям, иногда заканчиваясь карстовыми пещерами, а иногда оставленными людьми бункерами и бомбоубежищами. Дело было в стиле жизни, который определяется иногда довольно случайными факторами.
Стиль жизни был связан и с тем, что за люди случайно оказались на станции двадцать лет назад, и с тем, какой путь они прошли за это время.
И если у нас всё было так непросто, то можно было только представлять, как причудлив подземный народ за границами нашей стабильной области. У нас-то мир и спокойствие, мы нужны всем! Мы — закрома метрополитена и его житница, а там волчий вой, зубовный скрежет, и счёт жизни идёт не на часы, а на патроны.
Это там — война, а у нас свинина, да ещё зерновые. У нас куры размером с арбуз. У нас и арбуз растёт, только отчего-то белый внутри, но сладкий, как сахар.
Но арбузы — это так, развлечение, дорогая игрушка.
Владимир Павлович как-то сказал, что мы живём, как Дания во время предпоследней войны. Тогда оккупированная Дания кормила немцев, и никто к датчанам не придирался. Ещё бы, пожжёшь и постреляешь кормильца, так откуда брать масло с хлебом? Как-то так выходило и с нами. Время наше текло, как масло в нагревательных системах.
Я же давно стал специалистом по слаботочной аппаратуре. Да, впрочем, чинил я и аппараты гидропоники, ремонтировал биореакторы, много чем я занимался, потому что не боялся электричества.
Женщина, которая смотрела за хозяйством и условиями проживания, добрая баба Тома, благоволила ко мне и терпела даже визиты Владимира Павловича с его фляжками и бутылками. Я догадывался, что она хотела видеть во мне сына, да только я не был похож на её мальчика, сгинувшего в междоусобице где-то на южных станциях метрополитена. Внешне баба Тома была похожа на классическую русскую бабушку, но я-то знал, что была у неё за плечами какая-то непростая судьба. Я как-то назвал её фамилию в Полисе начальнику по режиму и привёл собеседника в состояние ступора. «Сама Рашидова? Рашидова?!» — бормотал он, хотя подробностей я от него так и не добился. В каких-то непростых учреждениях обреталась она до Катаклизма и явно не на простых должностях.
У неё был очень точный глазомер в отношении людей, иногда беспощадный, а иногда, как в случае со мной, щадящий. Добрый, я бы сказал, хотя слово это дурацкое и ничего не объясняет.
Как-то лет десять назад на звероферме я попал под клык лебёдки, который распорол мне ногу. Виноват в этом был отчасти я сам: не проверив оборудование, врубил электромотор и стал поднимать негабаритный груз. Но трос лопнул, зубья разжались, и стокилограммовый кусок калёной стали рухнул почти точно на меня. Я свалился в загон к свиньям, и пока лежал без сознания, они погрызли мне ногу. После этого я пролежал в лёжку два месяца, а баба Тома буквально выкормила меня.
Поэтому она была мне действительно вместо настоящей бабушки — нет, не матери, а именно бабушки.
Дедушка у меня, кстати, тоже, можно сказать, был — старый кореец Ким, пришедший давным-давно с «Тимирязевской». Ким учил меня корейской гимнастике: про Кима сначала думали, что он владеет особым боевым искусством и может научить убивать человека голыми руками.
Оказалось, что он действительно специалист по гимнастике, но совершенно мирной. Тогда интерес к нему пропал, все разбежались учиться чему-нибудь более кровожадному, и я остался единственным учеником. Под надзором Кима в заброшенной сбойке между тоннелями я оборудовал спортзал и поднимал там куски рельса вместо штанги. Это мне жутко нравилось, потому что было даже приятнее, чем чтение, можно было ровно ни о чём не думать, кроме своего дыхания.
Когда я пришёл на «Сокол», то обнаружил, что наши свинолюбы находятся в каком-то странном смятении. Я зашёл в раздевалку под лестницей и принялся пить чай со свинарями. Оказалось, они тоже что-то слышали о перестрелке на дальних подступах к «Соколу» и ожидали нашествия.
Я на свинарей дивился. С одной стороны, я очень любил людей, которые находятся на своём месте и делают важное и нужное дело. С другой стороны, я был для них чужим, и это ощущали все — и я, и они сами. Я был из «чистеньких», но меня нужно было терпеть, ведь без электричества они не смогут жить. Поэтому мы ели и пили вместе, я смеялся их грубым шуткам, иногда сам рассказывал что-то смешное, но всё равно мы относились друг к другу немного насторожённо.