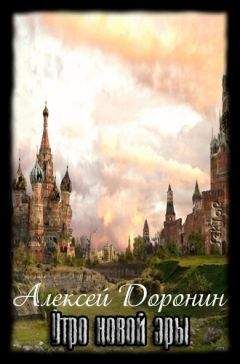Черный день. Книги 1-8 (СИ) - Доронин Алексей Алексеевич
«Какие к чертям творческие?» — подумал Александр. Раньше творчества в их жизни — существовании офисного планктона — было ноль. Оно появилось сейчас, когда они творили новый народ, трудясь на земле. Сам он раньше был фрилансером, копирайтером, рефермейкером. Все лишь бы руками не работать и получать что-то кроме скромной зарплаты учителя. А теперь не видел ничего унизительного в работе лопатой. И очень был бы рад поменять автомат обратно на свою родную штыковку.
— Значит так, — снова заговорил Ключарев. — К городу едет колонна. Скоро тут будут их друзья. Нам придется драпать. Поэтому все пленные через двадцать минут должны быть мертвее этих бревен. Вы понимаете, Женевская конвенция не актуальна. Все, приступайте. И помните, что умереть легко. Жить трудно.
Богданов тут же начал собирать добровольцев в расстрельную команду. Но все только смотрели друг на друга и молчали.
Тогда Владимир матюгнулся.
— Вы что, толстовцы? А в бою вроде не трусили. Ну ладно, добровольцами назначаются... — и он стал быстро выкликивать имена, выбирая самых бывалых. Всего получилось двадцать имен, вернее, позывных.
Данилова и людей из отделения Змея среди них не оказалось.
Александр уже хотел отойти подальше и присесть, когда услышал наполненный яростью крик Богданова:
— Да я тебя сам шлепну, Ганди недоделанный!
— Мы не звери, — ясно отвечал ему незнакомый голос. — Не надо им уподобляться. Отпустим их, они против нас больше воевать не будут.
— Им скажут, и они будут, — видно было, что Владимир сдерживает себя изо всех сил. — А депортировать их некуда. И запереть негде. А ты вообще-то в боевой обстановке. И это приказ, — лицо сурвайвера было абсолютно белым, и это был плохой знак, — Игнорируешь его, и я тебя сам ликвидирую.
Данилов подошел поближе.
Перед замполитом Богдановым стоял человек, которого Данилов видел всего пару раз — среднего роста, плохо выбритый, он работал в котельной и одновременно библиотекарем, до войны был исполнителем бардовской песни, ролевиком. Но в армии служил и силы был неимоверной. А как иначе таскать меч и полные доспехи, пусть даже и бутафорские? Изредка бренчал на гитаре и теперь. Данилов терпеть не мог его музыку, но женщинам нравилось: от пятилетних девочек до пожилых матрон. Это позволяло Тимуру, так его кажется, звали, быть еще и дамским угодником.
«Какое мне к черту дело до него? Ну какое? Разве без его песен обеднеет человечество?»
К черту песни. Им нельзя допустить разобщенности. А зная темперамент Богданова, можно предположить, что сейчас будет труп. И моральный дух остальным это не поднимет.
— Я могу! — неожиданно для самого себя вмешался Данилов. Он сказал это громко и четко. Все головы повернулись к нему. Кто с презрением, но в основном с недоумением.
— Так-так, — Богданов пристально посмотрел на него. — Есть у меня тут непротивленец. И есть сопротивленец.
Он имел в виду кампанию гражданского Сопротивления.
— Это даже хорошо, Санек. Искупай свой грех. В том, что сейчас русские в России убивают своих, есть и твоя вина. «Жулики и воры, шагом марш в оффшоры!» Не забыл?
Данилов понял, что Владимир не шутит. Что и вправду считает, что Сашина личная вина есть в страшном августовском холокосте. Просто раньше этого не высказывал.
— Нет, не забыл. И не жалею.
— Это бесы в тебе не жалеют. Ничего. На том свете нас всех взвесят точными весами. А пока иди и выполняй. Они, — он указал на пленных, — на твоем месте не колебались бы ни секунды.
С этими словами православный сталинист коротко кивнул бойцам и удалился.
Данилов подумал о Насте и последние сомнения исчезли. Что эти выродки, эти гамадрилы сделали бы с ней?..
Вспомнил женщин из Гусево. Порванные рты, выбитые зубы, шеи, руки и ноги в синяках, порезах и ожогах от сигарет. А у одной, потерявший разум от издевательств, постоянно забывавшей прикрыться порванной юбкой… изодранная плоть на месте молочных желез, на кожу сквозь прорехи в ткани страшно смотреть — красное месиво. Она сначала показалась им женщиной лет сорока… потом ровесницей, и только потом они поняли по несформировавшемуся телу, что она еще подросток.
Что они, ополченцы, могли сделать для этих несчастных? Они, боевое подразделение, «герильи», партизаны, а не спасательная команда. Только дать немного еды, одежды... и запереть до конца штурма в лесной избушке под присмотром двух бойцов, предварительно обыскав на предмет радиосвязи. Богданову в бдительности было не отказать. Он в каждом пне видел вражеского соглядатая.
Куда они пойдут потом? Что будет с этой девчонкой? Ей помогали идти другие женщины. Может, напрасно. Может, она уже не жилец. Может, разум не вернется к ней никогда. А если вернется, не будет ли хуже?
Александр видел встревоженные, но человеческие глаза врагов и вспоминал пустые глаза тех, кто из-за них прошел через все круги ада.
Может, эти ребята и не плохие. Да, не плохие. Нормальные. И именно поэтому сейчас они умрут. Он взял автомат, передернул затвор и выстрелил первым в того, кто казался ему самым нормальным. Наверно, его ждала семья. И Саше без всякого сарказма было ее жаль.
Александр успел пристрелить второго, когда вслед за ним открыли огонь и остальные.
— Мы не… Нас заставили! — прокричал кто-то из агропромовцев. Но его тут же убили.
К запахам летнего утра, смешанным с запахом гари, добавились запахи крови и внутренностей. Как будто они последовательно чернили, пятнали окружающий мир грязью, из которой почти целиком состоит человек внутри. И единственной жизнью после смерти, которая доступна сложным белковым организмам, стали судорожные движения агонизирующих тел.
— Да вы люди или нет? — сдавленным голосом проорал один из алтайцев, прежде чем пуля пробила ему голову.
— Уже нет, — услышал наполовину потерявший слух Данилов голос кого-то из товарищей.
Все по-разному встречали свою смерть. Человек пять плакали, выли и бились в истерике, лежа на земле. Убежать попытались всего несколько, но этих первыми срезали выстрелами. Один, самый прыткий, сумел взобраться на забор, отделявший его от свободы. Тут его и достали. Но основная масса встретила свою судьбу будто в сонном параличе, как кролики перед удавом. Они кричали, только когда в них попадали пули. Но их вопли почти заглушались грохотом выстрелов.
А потом выстрелы, пусть и одиночные, слились в одно грохочущее нечто, как будто тяжелогруженый поезд мчался под откос. Стреляли одиночными. Бревна были толстые, и рикошетов не было. По три раза все сменили магазины, прежде чем последний из пленных перестал шевелиться.
Кровавые ручьи текли у них под ногами, доходя до щиколоток. Кровь текла по утоптанной земле, вбирая в себя грязь и сор, напитывая собой опилки, печную золу и пепел.
И, глядя неверящими глазами на то, что они сделали, двадцать человек стояли посреди старой пилорамы, утопая в липкой крови. Впрочем, мало кто устоял на ногах долго. Почти все или облокотились о стены или присели, с трудом найдя чистую землю. Некоторых рвало. Кто-то ходил туда-сюда, раскачиваясь как зомби. Все молчали.
Александр вспомнил, как вроде бы в старину заряжали один патрон на всю расстрельную команду. Чтоб не травмировать психику солдат, чтоб никто из них не знал, чья именно пуля оборвала жизнь казнимого. Потом пришли иные времена, и две мировые войны сделали даже память о таком обычае смешной.
— Пойдемте, - первым пришел в себя один из бойцов, мужик лет сорока, бледный как полотно, так что на лице было видно только черные усы. — Мы никому… особенно нашим женщинам и детям об этом не расскажем.
Пришел Богданов. Сдержанно похвалил и раздал им по фляжке с коньяком. Как оказалось, захваченным на вражеской полевой кухне.
— Если душа требует, выпейте. Можете даже закурить. Вы сегодня обряд посвящения прошли.
— В гестаповцы? — произнес Данилов в ответ на его слова. — Эти люди и правда не думали, что их будут убивать.
— Да. Они думали, что будут безнаказанно убивать нас.