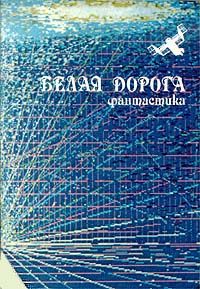Андрей Попов - Солнечное затмение
-- Вношу поправку: святой Пьер, живущий на хлебе и воде, и молящийся за весь мир! Теперь продолжай.
Мариаса потерлась носом о его щеку.
-- Так вот, твой богоподобный брат всякий раз смущается и краснеет, как только ее увидит.
Жерас хотел укусить ее за губу, но та вовремя отпрянула и весело оскалилась.
-- Ни в жизнь не поверю. Мой несчастный брат помешан на одних молитвах, мечтает стать монахом и удалиться в какой-нибудь Лабиринт Мрака. На женщину он боится даже поднять глаза. Ты хоть раз в жизни задумывалась, какой это страшный грех -- глядеть на женщину... -- он медленно расстегнул у нее две пуговицы. -- Да еще на такую красивую... -- последние слова принц уже шептал: -- Да еще с такими головокружительными, пышными грудями...
Он принялся ласкать пальцами ее соски, словно для этого выпавшие из полураспахнутой пижамы. И шептал только одно: "ужасный, страшный грех...".
Ее глаза стал заволакивать дымок пьянеющей страсти. Жерас окунул руку в золотые нити волос и потрепал ее за ухо. Бывшая королева панонская на всякий жест внимания в ее адрес ехидно щурилась и начинала издавать звуки, свойственные только хищнице. Потом она резко повернула голову и укусила его за руку. Видя, что принц от неожиданности вскрикнул, расхохоталась.
-- Я тебя когда-нибудь съем!
-- Ну у тебя и зубы! Представляешь, если эта идея придет тебе в голову, когда... ладно, не будем об этом.
Даже цвет ее карих глаз менялся в тон ее настроения. Когда она была спокойна, то глаза бледнели, словно тухли. Если злилась, -- они становились темно-коричневыми с густой примесью потревоженной гордости. А если она возбуждалась, ее зрачки-хамелеоны неимоверно расширялись, и в них загоралось древнее колдовство, доводящее порой мужчин до сумасшествия. Жерас внимательно посмотрел ей в душу и понял, наконец, чего она сейчас хочет. Он обхватил ее за талию, хорошенько отшлепал по заднице, потом положил ее голову себе на грудь и стал ласково поглаживать волосы.
Мариаса успокоилась. Больше не рычала и не царапалась. Покорно отдалась вздымающимся волнам его теплой груди.
-- А знаешь, ведь сейчас вся Франзария, кроме двух человек -- тебя и твоего отца, думает, что я уже начал гнить в земле. Представь: на мне черная кожа... на мне протухшая плоть... у меня впадины вместо глаз... А трон моего отца уже наверняка примеряет под свой зад Лаудвиг.
-- Да... -- протянула Мариаса. -- Только рядом с его троном сразу надо ставить бочку вина и еще множество тронов для его бесконечных шлюх.
-- А вот Пьеру сошел бы и деревянный трон. Из нестроганных досок.
Оба засмеялись.
-- Когда ты станешь королем, какой первый указ ты издашь?
Жерас почесал в ее затылке.
-- Сейчас подумаю... Прежде всего предъявлю твоему отцу счет, чтобы он оплатил мое проживание в гробу подземной гостиницы. Номер он мне снял довольно тесный и неуютный.
-- Большой счет?
-- Тысяча евралей. А на вырученные деньги прикажу сделать огромный, во всю грудь, орден.
Мариаса коснулась пальцами его губ.
-- И кого им наградишь?
-- Его же... За то, что отдал мне в спутницы жизни свою старшую дочь.
-- О-о... Как шикарно звучит! А вообще, это правильно. -- Мариаса принялась поглаживать его тело. -- Я тебя многому научу. В Панонии говорят: постель -- это тот же театр. И любовники должны быть великолепными актерами, чтобы их любовь стала искусством. Ой, как многому я тебя могу научить...
Жерас небрежно ухмыльнулся.
-- Это точно. Про твои подвиги с тамошними панами ходят легенды... -- и тут же осекся, поняв, что сказал лишнее.
Поздно. Мариаса вскочила как ошпаренная, метнула стрелы из своих глаз и стала бледной, похожей на глыбу льда.
-- Так значит, да?
Она спешно накинула пеньюар и исчезла из комнаты, оставив после себя легкий ветерок. Жерас постукал кулаком себе по лбу, потом кинулся следом.
-- Мариаса, подожди! Ну прости меня, ляпнул чего не надо! Тебе ведь самой должно быть хорошо все известно... Людские сплетни... А про меня, кстати, знаешь сколько сплетен ходит? -- он отчаянно подбирал нужные слова, дабы затушить ее гнев.
Она обернулась лишь один единственный раз и сказала одну единственную фразу:
-- Свой орден можешь засунуть в свой девственный анус!
И исчезла.
Принц покачал головой.
-- Вся в отца.
На этом конец. Их волшебная феерия средь завистливых глаз древних животных, молчаливого сумрака и эротично горящих свечей завершилась. Жерас поначалу надеялся, что ее вспышка гнева мимолетна, что она вот-вот войдет в его комнату, рассмеется и вновь вскочит на его колени. Увы... Мариаса стала совсем чужой. Она лишь молча приносила ему еду, а на все вопросы отвечала цитатой из словаря, состоящего из трех слов: "да", "нет", "не знаю". Засыпая в своей кровати, Жерас не переставал ждать, когда наконец шелохнется занавеска и блеснут огнем ее волосы...
Напрасно ждал. Напрасно надеялся. Напрасно вообще родился в этот мир.
* * *
Дворец английского короля Эдуанта располагался а самом центре Велфаста. Его архитектор, живший и творивший еще при Чарлоте Третьем, дал простор всей своей фантазии и потратил почти всю жизнь на создание этого чуда. Дворец был сделан в виде огромнейшей головы, по плечи торчащей из земли. Рот богатыря, где располагались ворота, время от времени открывался. Со стороны выглядело слегка комично, но богатырь как бы "кушал" входящих во дворец гостей и "отблевывал" тех же гостей, его покидающих. На створках, движущихся с помощью лебедки, цветным мрамором даже были выложены губы и кончики зубов. Строители сделали лицо гиганта каким-то печальным, с нахмуренными бровями и многими морщинами. Глаза его постоянно горели. И горели в буквальном смысле. Король приказывал стражникам жечь там костры. Люди, которые впервые приближались к велфастскому чуду, еще издали содрогались от ужаса: посреди вселенской тьмы зияет неимоверных размеров человеческая голова в остроконечном шлеме, и глаза ее жгут вездесущий сумрак. Самая изящная мистическая бутафория, созданная людьми.
Покои короля Эдуанта находились там, где у богатыря должен бы располагаться мозжечок -- кстати, отвечающий за координацию движений. Но сказать, что сам Эдуант был великим координатором собственного миража, довольно трудно. Легче утверждать другое: он, как личность, был еще интереснее, чем его экзотичный дворец. За глаза его называли шутом в короне. Еще смолоду он, как и многие, стал сочинять стихи. Но до такой степени бездарные, что даже Фиоклит постыдился бы поставить под ними свою подпись. Они не годились ни в качестве поэзии, ни в качестве ее гротеска. Наглядный пример:
"Чему уподоблю я нашу жизнь?
Она подобна мухе летящей.
Если вглядимся мы в муху зорко --
Увидим ее парящей
Со взмахами крыльев словно богиню,
Она летит утверждать свою гегемонию.
Она прекрасна, ей отдана честь.
С мохнатыми лапками количеством шесть!"
При чтении своих зарифмованных перлов король слегка смущался, извиняющимся голосом говорил: "вот здесь как бы рифму надо немного подправить". Но на самом деле страстно ожидал от своего окружения словесного апофеоза. И никогда не обманывался в ожиданиях. Придворные, с изумлением глядя друг на друга, восклицали: "это восхитительно! это великолепно! слышали ли наши уши раньше что-либо подобное?". Ибо каждый из них знал, чем более страстным поклонником таланта его величества он будет, тем более успешная карьера его ожидает. Эта полутеатральная буффонада длилась во дворце с момента коронования Эдуанта.
Еще король любил сочинять и рассказывать анекдоты. Слуги и министериалы, слушая их, считали чуть ли не своим долгом перед отечеством в конце каждого анекдота громко посмеяться, лишь бы успеть сообразить, где эта концовка. Довольный Эдуант ехидно прищуривал один глаз и вопрошал: "недурно придумано, да?". Он почти всегда носил белый пышный парик, из-под которого его нежное, похожее на женское, личико кокетливо поглядывало на окружающих. Король почти постоянно улыбался, даже когда оставался наедине. Его неугомонная буйная фантазия рисовала в его воображении что-либо комичное связанное с его персоной. Бывало кто-нибудь из придворных заметит издали, как король одет по коридору один-одинешенек, машет руками, что-то шепчет губами и улыбается. Оглянется тот придворный вокруг, увидит, что никого нет, покрутит указательным пальцем возле виска и пойдет дальше. На самом же деле Эдуант мнил себя доблестным рыцарем множества прекрасных дам. Не только англичанок, но и красавиц других миражей. В его фантазиях дамы окружали его шумной ликующей толпой, а он читал им свои неповторимые мадригалы и рассказывал до безумия веселые анекдоты.