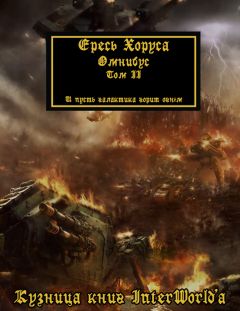Александр Бушков - Золотой Демон
— Ну, что скажет на сей счет наука? — вымученно улыбаясь, поинтересовался Самолетов.
— Наука, Николай Флегонтович, пока что перед этим бессильна, — печально ответил профессор фон Вейде.
— Наука умеет много гитик… — протянул Самолетов и вдруг взорвался: — Какого ж черта? Уйму умных книг печатаете, словесами швыряетесь на ваших сборищах, плешь продолбили: могучая поступь прогресса и знания, конец невежеству и суевериям, материализм… Мир наш ясен и прост, говорите? Все поддается рациональному научному объяснению, говорите? Ну вот извольте мне это объяснить, будучи семи пядей во лбу!
Профессор смотрел под ноги. Отец Прокопий подошел к Самолетову, положил ему руку на плечо и задушевно сказал:
— Николай Флегонтыч, уймись, не срывай зло на непричастном человеке…
— Ну, а делать-то что? — форменным образом взревел Самолетов.
— А ничего тут не сделаешь, чадушко, — грустно ответил священник. — Одна надежда на христианское смирение да Божье милосердие…
Самолетов что-то строптиво ответил, но поручик уже не слушал — он направился к своему возку. «Так оно отныне и будет, — думал он зло, — разбредемся по своим кибиткам, как мыши по норкам, будем сидеть тихонечко и смирно, надеясь, что все как-нибудь обойдется и до Челябинска доберемся невредимыми — а там, Бог даст, тварь эта, самозваный Иван Матвеич куда-нибудь улетучится… Будем сидеть, презирая себя… но ведь нет другого выхода…»
Он залез в возок, яростно стукнув дверцей, плюхнулся на сундук и, отводя глаза, сказал:
— Лиза… Дай водки.
Лиза, не произнеся ни слова, приподняла крышку погребца. Донышко бутылки глухо стукнуло о чемодан.
— К черту Стопку. Там стакан был…
Столь же беспрекословно она убрала стопку и поставила рядом с полуштофом серебряный стакан, подаренный поручику тестем. Горлышко звякнуло о край стакана, немного пролилось на покрывавшую чемодан холстинку. Рывком поднеся стакан ко рту, поручик одним махом проглотил горькую водку, покривился, замотал головой. Прикрыв глаза, откинулся на стенку и стал ждать результата. Результат оказался унылым: не забрало… Словно воды хватил.
— Что там за крики были? — тихонько спросила Лиза. — Снова…
— В том числе… — сказал поручик, открывая глаза. — В том числе… Он объявился. В совершенно человеческом виде, даже называется Иваном Матвеичем, скотина… Он, видите ли, желает с нами путешествовать до Челябинска… И сталь почему-то на него не действует, хотя должна бы…
— Его можно убить, — сказала Лиза.
Поручик встрепенулся, поднял голову. Лиза смотрела на него грустно и серьезно, красивая, как никогда.
— Откуда ты взяла?
— Я и сама не знаю. Во сне как-то… чувствовалось.
— Ты же говорила, снилась только степь…
— Ну да, степь и конь. Но там еще было много разных мыслей… Или не мыслей… Не знаю, как объяснить… Такое чувство, что я с ним уже встречалась…
— Ты — с ним? Быть не может, — убежденно сказал поручик. — Этого просто не может быть. Братовья эту штуку раскопали совсем недавно, прошлой осенью, она была наглухо запечатана и раньше ты ничего подобного…
— Я знаю, — сказала Лиза. — И все равно, такое чувство…
— Очередное наваждение, — сказал поручик. — Не знаю, как это у него получается и зачем, но это очередное…
Дверца возка распахнулась настежь. От неожиданности поручик схватился за эфес стоявшей тут же сабли, как будто это могло чем-то помочь, но тут же убрал руку, увидев Самолетова.
— Чему обязан такой бесцеремонностью? — спросил он сердито.
— Ай! — махнул рукой купец. — Не дамская спальня, в конце-то концов… Пойдемте, Аркадий Петрович, авось поможете…
— Что там?
— Да так… — досадливо морщась, сказал Самолетов. — Японец наш чудить начал еще почище Четыркина. Самоубиться, похоже, вздумал… Та еще картинка.
…Действительно, зрелище предстало ничуть не заурядное. Возле возка, в котором путешествовали оба японца, был расстелен квадратный шерстяной коврик с диковинным узором. На нем на коленях стоял Канэтада-сан, голый по пояс, весь покрывшийся гусиной кожей, но стоически переносивший холод. Его узкоглазое лицо было невероятно бесстрастным, непреклонным, в руках он держал короткий кинжал того же непривычного вида, похожий на меч. Сабля помещалась тут же, воткнутая в снег, а рядом с ней переминался переводчик, выглядевший не таким бесстрастным. На поручика он, во всяком случае, уставился с нешуточной надеждой.
Выпрямившись, глядя на поручика строго и надменно, молодой японец повернул кинжал острием к себе и заговорил:
— Канэтада-сан просит вас, как дворянина и офицера, а значит, благородного человека, оказать ему последнюю дружескую услугу. Канэтада-сан намеревается соблюсти священный старинный обычай своей страны, именуемый сеппуку. Когда Канэтада-сан взрежет себе живот, вы исполните дружескую роль кайтасаки и отрубите ему голову этим мечом. Вы офицер и, следовательно, умеете владеть оружием. Это отличный меч, изготовленный славным мастером Минатори еще в дни молодости прадеда Канэтада-сан, он способен отрубить голову в мгновение ока. К сожалению, мое происхождение не позволяет исполнить роль кайтасаки, поскольку здесь находятся более благородные господа…
— Да что это такое? — спросил поручик в полной растерянности. — С ума он, что ли, сошел?
— Наоборот, Канэтада-сан находится в полном рассудке и намерен уйти из жизни именно так, как это подобает благородному самураю в этой ситуации. Канэтада-сан не сумел одолеть злокозненного демона и покрыл себя позором, который можно смыть исключительно с помощью сеппуку…
— Только этого не хватало… — тяжко вздохнул Самолетов. — Мало нам своих бед… Что делать прикажете?
Поручик лихорадочно размышлял. Меч схватить было как раз нетрудно, но вот отобрать у упрямого японца кинжал вряд ли возможно: вон как вцепился обеими руками, и если начнешь отнимать, чего доброго, загонит себе в брюхо… Черт бы побрал его вместе с дурацкими обычаями…
— Канэтада-сан надеется, что вы, как человек благородный, не заставите себя ждать…
Обычай обычаем, но японцу явно было холодно полуголым на морозце, и он не хотел затягивать… Вот оно!
— Переведите старательно, — сказал поручик в приступе озарения. — Мы здесь с превеликим уважением относимся к обычаям других стран, но в том-то и загвоздка, что задуманное входит в категорическое противоречие с нашими народными обычаями, которые Канэтада-сан, как человек благородный, обязан уважать… — он торопливо подыскивал нужные убедительные слова, чувствуя, что малейшая заминка может все погубить. — Я надеюсь, так и обстоит, спросите…
— Канэтада-сан говорит: он с величайшим уважением относится к обычаям и традициям вашей великой страны…
— Отлично, — сказал поручик. — Согласно нашим обычаям, человеку категорически запрещается лишать себя жизни вне городов, а уж тем более в странствии. Дело даже не в самом человеке, решившемся на такое… Канэтада-сан на всех нас своим поступком навлечет позор и бесчестье. На всех, кто едет в обозе… Спросите: неужели он способен поступить с нами со всеми так неблагородно?
— Канэтада-сан полагается на ваше слово… Он готов поверить благородному человеку, что все так и обстоит…
Поручик выпрямился, стараясь придать себе столь же непреклонный и гордый вид, как у стоявшего на коленях с острием у живота японца, — но не знал, насколько это у него получилось. Произнес, гордо вскинув голову:
— Слово дворянина!
Он подумал что подобное, собственно говоря, некоторым образом против чести… Ну и наплевать. В конце-то концов, спасти человека, согласно дурацким обычаям решившего вспороть себе брюхо, гораздо важнее, чем покривить однажды душой и покрыть обман честным дворянским словом. Не Рюрикович, чай… Никто все равно не узнает…
Прошло несколько томительных мгновений. Наконец японец неспешно поднялся, убрал кинжал в ножны, с тем же бесстрастным лицом поклонился Савельеву. Переводчик, с неприкрытым облегчением на лице, подал ему мундир, помог всунуть руки в рукава.
— Канэтада-сан говорит: из уважения к традициям вашей страны он временно отказывается от своего намерения, которое обязательно осуществит в том месте, где русские обычаи этого не запрещают…
«Ничего, — подумал поручик. — Авось в Челябинске он в разум и придет — а может, еще что-нибудь и придумаем…»
От хвоста обоза быстро приближался стук и треск — это клятый Иван Матвеич с невероятным проворством и быстротой перемещался прыжками с возка на возок, всякий раз заставляя лошадей тревожно вскидывать головы и ржать.
— Ну вот, господа, — сказал он, стоя у них над головами, — я только что имел счастье беседовать с простым народом, то бишь нашими ямщиками. Отрадно отметить, что все они проявили здравомыслие и трезвый рассудок, отнесясь к моему присутствию с величайшей терпимостью. Причем, в отличие от образованных и благородных господ, у них хватило ума не тыкать в меня всевозможными острыми предметами… Брали бы пример, господа!