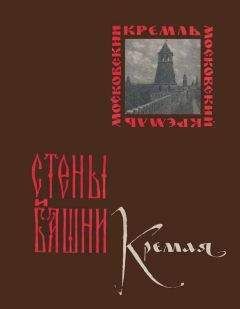Василий Гавриленко - Теплая Птица
— Скорее.
— Не волнуйся, конунг, — отозвался Шрам.
Конунг? Для кого-то я еще был конунгом…
Но откуда взялся Шрам? И почему он спас меня? Мы оставили его, избитого до полусмерти, подыхать в Джунглях… Николай! Умирающий истопник силился мне что-то сказать:
— Он… здесь…
Быть может, Николай имел в виду именно Шрама?
Впрочем, неважно. Важно то, что я жив. Жив благодаря игроку, которого по моему приказу зверски избили, — но это тоже неважно. Приказ отдавал не я, а конунг Московской резервации Артур.
— Марина, — прошептал я.
Образ рыжеволосой девушки понемногу заполнял мое сознание, и он занял бы его полностью, если бы впереди не возник поезд. Мой поезд.
Он стоял, черный от копоти, маскировка содрана, лишь красная звезда на лбу тепловоза блестела в сгустившихся сумерках. Из трубы от буржуйки, выведенной прямо в стену, струился сизый дымок. Хороший дымок, такой бывает от березовых жарких дров.
Шрам достиг кабины.
— Прости, конунг.
Он аккуратно опустил меня на снег и, впрыгнув на ступеньку, несколько раз постучал в дверцу. Глухие удары исчезли внутри тепловоза, отозвавшись мертвой тишиной.
Но вот послышалось, будто в глубине норы заворочалась потревоженная лисица.
— Кто?
— Это я, Олегыч, — отозвался Шрам.
Дверца кабины со скрипом распахнулась. Машинист высунулся наружу. Он был черен, как и его тепловоз, лишь глаза (красные звезды?) блестели холодным огнем. В руках Олегыча был автомат.
— Шрам? — глухо сказал он. — Кто с тобой?
— Конунг. Он ранен.
— Скорее, — одними губами прошелестел Олегыч.
Шрам поднял меня и внес по ступенькам в кабину. Дверь захлопнулась.
Здесь все было по-прежнему.
Обняло тепло от печки, теплые невидимые пальцы приятно защекотали в носу. Я чихнул.
Пахло распаренной тваркой и концентратом. Во рту тут же собралась слюна, и я вспомнил, что чертову прорву времени ничего не ел.
— Клади его на мою постель, — распорядился Олегыч.
Он суетился: сунул автомат в переплетенье каких-то проводов, где его, пожалуй, потом и не найдешь, подкинул в печку большое березовое полено, хотя и без того жарко. Чувствовалось: машинист рад.
Шрам опустил меня на постель.
— Олегыч, есть, — попросил я.
— Один момент.
Я поглощал горячий концентрат, как растения в жаркий полдень редкий дождь, и чувствовал, что тело мое наполняется живительной силой.
Олегыч между тем приволок какие-то тряпки и перевязывал мне плечо.
Ранение было пустяковым, — состояние оцепенения вызвал во мне пережитый страх, сильнее страха смерти. Страх с уродливой ухмылкой мутанта, страх-мутант, который теперь, под воздействием тепла, покоя, и осторожных рук Олегыча, медленно уходил, испарялся, как капелька влаги на щеке.
— Спасибо, Олегыч.
Я отдал машинисту пустую миску и приподнялся.
— Лежи! — испугался он.
Я послушно опустил голову на твердую подушку.
Огонь мерцал, скованный железом печки, гудел в тщетном стремлении вырваться на свободу. Шрам сидел за столом, подперев голову кулаком. В красноватом свете буржуйки его изуродованное лицо выглядело печальным. Перед ним стояли три закопченные кособокие кружки.
Олегыч, порывшись в проводах, выудил бутыль с зеленой жидкостью.
— Последняя, — слегка смущаясь, сообщил он.
Темная зеленка, блестя, потекла в кружки, приятно запахло спиртом. Полную до краев кружку, Олегыч протянул мне.
— За что выпьем? — кашлянув, спросил он.
«За отряд», — хотел предложить я, но Шрам меня опередил.
— За Николая, — мрачно сказал он и одним глотком осушил кружку. Не моргнув и глазом, закусил тваркой.
— За Николая, — вздохнул Олегыч.
— За Николая.
Перед моими глазами возникло лицо моего истопника, но не мертвое, а живое, когда мы с ним выпивали в вагоне конунга. Точно так же потрескивала буржуйка, а за стенкой вагона повизгивал ветер.
— Еще, конунг?
— Не хочу, Олегыч. И не называйте меня больше конунгом, хорошо? Какой я теперь, к черту, конунг?
— И как нам тебя называть?
— Называйте… Островцевым… Нет, лучше просто Андреем.
— Андреем, так Андреем, — пожал плечами Олегыч.
Мы замолчали. Каждый думал про свое, но, надо полагать, во многом это «свое» совпадало.
— Олегыч, — вспомнил я. — Где пулеметчик, как его, Горенко?
— Мертв, конунг… то есть Андрей, — пережевывая тварку, отозвался машинист. — Как ты с отрядом ушел, так почти сразу нагрянули питеры. Горенко убили, я в двигательном отсеке схоронился, а Шрам… Шрама разве поймаешь.
Нечто похожее на улыбку мелькнуло на изуродованных губах.
— Кстати, Шрам, как ты здесь очутился?
Игрок молчал, и когда показалось, что он не ответит, вдруг заговорил.
— Николай меня сюда привел. Я слаб был, шатался. Он плечо мне подставил. Слабое плечо. Дрожит, но ведет. Выходил меня. С Олегычем. Кормили. От себя отрывали. Только дури не давали. И прошла дурь.
— Прошла дурь?
— Он больше не наркоманит, — пояснил Олегыч, закуривая папиросу.
— Да, — Шрам тряхнул головой, словно пытаясь избавиться от нехороших мыслей. — Ты, конунг, меня пощадил. Не дал убить. Я запомнил. Я помню хорошо. Я пошел за отрядом. Николай погиб…
Плечи игрока затряслись. Замерев, мы с Олегычем наблюдали, как рыдает этот сильный, но искромсанный Джунглями человек.
8
ОЛЕГЫЧ
Я никому не приказывал, — не мог приказывать. Я просто сказал: «Мне нужно в Московскую резервацию». Шрам кивнул, а Олегыч и вовсе обрадовался.
— Наконец — то.
Я не удивился радости машиниста. Москва — его дом.
Рассвет был красен. Марина рассказывала, что слово «красный» означало у бывших «красивый». Красная площадь. Но рассвет не был красив. Он был красен, — багровое, жгуче-холодное солнце залило мертвый город соком ядовитых ягод. Из моей памяти, — памяти Андрея Островцева, а не конунга Артура, выплыли строки:
Этот вечер был чудно тяжел и таинственно душен,
Отступая, заря оставляла огни в вышине,
И большие цветы, разлагаясь на грядках, как души,
Умирая, светились и тяжко дышали во сне.
Строки были о вечере, а перед нами едва брезжил рассвет, но мне казалось, что я вижу на занесенных снегом кучах битого кирпича души, похожие на большие цветы.
— Вот эту стрелку надо б перевести, — заговорил Олегыч. — Заржавела, стерва, но Шрам должен справиться. Ну — ка, Шрам!
Рычаг стрелки сплошь покрыт рыжими чешуйками, рельсы, казалось, вросли друг в друга.
Шрам плюнул на руки, — желтая тугая слюна на миг зависла в воздухе. Вцепился в рычаг. Надавил.
— Не поддается, сучка.
— Давай, — крикнул Олегыч и заскрипел зубами так, точно это он, а не Шрам, переводил стрелку.
Игрок побагровел от напряжения.
Визг железа, наверно, был слышен на километр вокруг.
— Есть, — не удержавшись, закричал я.
— Отлично, — спокойно сказал Олегыч. — Теперь отцепим вагоны, и пойдем налегке. Дасть Бог, прорвемся.
Олегыч колдовал над приборами, время от времени отдавая Шраму короткие приказы. Здесь, в машинном отделении, Олегыч был не то конунг, но Бог. Я любовался им.
Тепловоз прогревался долго, тонко подрагивая. Я опасался, что он не сдвинется ни на йоту. Но, когда Олегыч занял свое привычное место в кабине, в продавленном кресле, — тепловоз тронулся, с места в карьер взяв высокую ноту луженой механической глоткой.
На стрелке сильно тряхнуло.
— Не боись, — весело крикнул Олегыч.
Тепловоз вырулил на запасный путь, проследовал мимо оставленных вагонов, — пустые кричащие пасти, все разграблено и сожжено. Даже вертолет с платформы сняли, проклятые питеры!
Еще одна стрелка, и тепловоз на том же пути, которым он прибыл в негостеприимную Тверь. Только теперь следовал обратно, домой, в Московскую резервацию.
Летящий в лоб снег, мелькающие пустоглазые здания, деревья в белых шапках веселили меня. И не только меня.
— Наш паровоз вперед летит, — надтреснутым дискантом запел Олегыч. — В коммуне остановка!
Тверь-зверь становился все реже, все меньше куч кирпича, остовов домов, труб и столбов, — и, наконец, растворился в Джунглях. Лапы деревьев щупали бока поезда, как хозяйка — курицу.
Вот и мост. Вот и река. Зеленый ядовитый поток, поверженный великан, Джунгли едва нашли место для его тела, стремящегося выйти за пределы берегов.
Стрекот — далекий, но стремительно приближающийся.
Тверь не отпускала: едва мы въехали на мост, как в небе перед тепловозом промелькнул вертолет. Пули зацокали по крыше. Одна пробила лобовое стекло и врезалась в пол рядом с креслом Олегыча.
— Андрей, к сбивалке! — крикнул машинист.