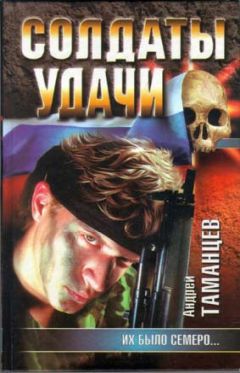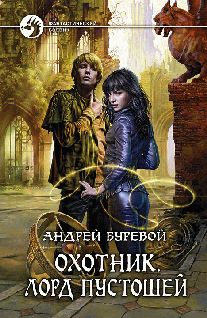Михаил Ахманов - Я – инопланетянин
– С плеч ниспадает пленяющий взгляд шелковый красный халат, смотрят зловеще драконы, цилини с непробиваемых лат… Конь его мечет копытом огонь – это не конь, а дракон… Феникс на острой секире сияет…[33]
– Время фениксов не прошло! – звонким голосом перебила меня Цинь Фэй и вдруг рванулась вперед, да с такой резвостью, что я на мгновение оторопел. До вуали – пять шагов, восемь – до остроконечной глыбы, похожей на бивень, и она проскочила их единым духом, как мчатся по россыпи рдеющих жарких углей. Чертыхнувшись, я бросился следом и даже не заметил, как пересек вуаль; мы стояли, глубоко дыша, глядели друг на друга, и я увидел, как на ее губах расцветает улыбка.
– Какого дьявола… Она гордо выпрямилась.
– Я – ваш проводник! Я вижу опасность и иду первой! Так меня учили!
– Я думал, тебя учили дисциплине. Долг младшего – слушать и повиноваться… Разве не так? Разве в Китае что-то изменилось?
Фэй отвела глаза.
– Ну-у, все же я не совсем китаянка… Я – аму! В той школе, в Хэйхэ, мне об этом постоянно напоминали. Еще говорили, что аму любят своевольничать… Я запомнила!
– Вижу, память у тебя отменная, – буркнул я и помахал рукой Макбрайту – Идите сюда! Кажется, мы живы… А если и нет, так лучше умереть, чем заржаветь![34]
…Когда мы, следуя уже обычным порядком, стали спускаться к руинам Лашта, Макбрайт поравнялся со мной и произнес:
– Подозреваю, приятель, что юная леди к вам неравнодушна. – Завистливый огонек мелькнул и погас в его глазах. – Определенно неравнодушна, а потому – берегитесь! Я был женат шесть раз, и дважды – на китаянках… конечно, наших, не из Китая… Прелестные женщины, тихие, ласковые и покорные, ну а в постели – просто чудо! Однако не без странностей. – Он с многозначительным видом поднял палец. – Как говорят у вас, у русских, в тихом… э-э… омуте черти водятся.
– Кто были остальные ваши жены? – поинтересовался я.
– Очаровательная мулатка – топ-модель, еврейка из очень порядочной семьи бостонских банкиров и шведка. Последняя – итальянка, настоящая, из Милана… Красавица, но ведьма! Черные глазищи, голос сирены и бешеный темперамент… выжала меня словно лимон… Пришлось с ней расстаться, – добавил он со вздохом.
Я сочувственно хмыкнул, припоминая, что этих интимных подробностей в досье Макбрайта не было, хотя там отмечалось, что женщин он любит и был не раз женат. Но все-таки – шесть жен! Почти как это было у Синей Бороды… И последняя – ведьма-итальянка! Черные очи и бешеный темперамент… Немудрено, что ему мерещатся инопланетные пришельцы!
* * *
Руины Лашта тянулись на несколько километров, и мы разошлись, чтобы обследовать максимальную территорию. Блуждая среди развалин домов, сараев и мечетей, фиксируя в памяти груды костей, целые и проржавевшие котлы, кожаную упряжь, обломки глиняной посуды и остальное имущество нищих горцев, я размышлял о Фэй. Чувства ее не укладывались в строгие рамки повиновения и уважения, питаемого в ВостЛиге к старшим, тем более – к начальникам и командирам, источнику мудрости и власти. Это было нечто иное, симпатия или неосознанное стремление к человеческому теплу, надежда обрести кого-то, с кем можно говорить, не опасаясь упреков в слабости. Судьба, бесспорно, обделила Фэй, отняв последние права, которыми еще владели в этом мире дети, и главным из них являлась любовь. Впрочем, ее при всех обстоятельствах надо рассматривать как главный фактор и движущий мотив, понимая при этом те чувства, какие одно живое существо испытывает к другому. Только так, и никак иначе! Все остальное, что на Земле зовется любовью к родине, богу, творчеству, – ошибка, ибо любовь к идее всего лишь абстракция, не утоляющая духовный голод и не дающая тепла. Такая простая, но непонятная людям мысль…
Слышал я про школу в Хэйхэ, слышал! Школы образцового воспитания одаренных в Хэйхэ и других городах… Цель – сделать из одаренных преданных, чтоб не удрали они куда-нибудь за океан, в Австралию, Штаты или Бразилию, а на худой конец – в Россию. Россия, конечно, не подарок, но по сравнению с Китаем – светоч свободомыслия… Бедная Цинь Фэй! Там, в Хэйхэ, ей скармливали голые абстракции, не заменявшие отцовской строгости и ласки и материнской любви… Такие девочки, став взрослыми, испытывают склонность к зрелым мужчинам, желая компенсировать минувшее и подчиняясь неизбежному закону: психика личности должна развиваться в гармонии с биологическим возрастом, не перепрыгивая через отрочество и детство.
Быть может, в этом кроется объяснение центростремительных сил, толкавших Фэй ко мне? Быть может… Даже наверняка.
Готовность к самопожертвованию, попытка разделить груз горестных воспоминаний, взять силу у дорогого человека и одарить его своей… Этот букет душевных движений и обстоятельств, переплетенных туманными лентами подсознательного, был обозрим и ясен, как радуга, повисшая над водами. Удивляло иное: не желание рискнуть и тем избавить меня от опасности, а странная ошибка, допущенная Фэй. Положим, ей не под силу заметить формации перед скалами – вуаль в них необычно тонкая, а всякая паранормальная способность имеет свой предел… Но в остальном она не ошибалась!
Я прокрутил воспоминания об этом эпизоде, представив, как замедляю шаги перед невидимой вуалью, зондирую ее и собираюсь с духом. Не уловила ли Фэй мои колебания? Тогда случившееся предстает в ином и совершенно новом ракурсе: не странная ошибка, а проверка! Возможно, ей хотелось убедиться, что я ощущаю вуаль и мне не нужен проводник – как, впрочем, и остальные спутники… Интересуется моим талантом из чистой любознательности? Или по указке свыше? Или боится, что я однажды исчезну, покинув их где-нибудь в этой пустыне?
Жаль, что я не могу коснуться ее мыслей, жаль! Но собственная память в отличие от дара телепатии мне подвластна, и, обозрев ее закоулки, я вытащил кое-что забавное. Наш разговор о Сиаде в первую ночевку… Слова, интонации, жесты, паузы – я помнил все, даже песок, запорошивший колени Фэй, и каждую складку на ее оранжевом комбинезоне.
Я сказал, что мы, наверное, кажемся ей слепцами, а после произнес: «Что удивительного в Сиаде? В том, что ему не нужен сон? Не больше, чем в тебе, девочка. Разве не так?»
Фэй кивнула, соглашаясь: «Так. Я поняла, командир. Я больше не буду задавать глупых вопросов. Только…»
Здесь она сделала паузу, и я ее поторопил: «Да?»
Она закончила мысль: «Вы не слепец. Многие слепы, но только не вы».
Случается, что женские речи загадочны и ставят нас в тупик. Новых идей в них обычно не встретишь; ими питают цивилизацию мужчины, а женщины, хранительницы Равновесия, следят, чтоб эти идеи не сокрушили мир. Но это не все, на что они способны, – я говорил уже об их предназначении, о том, что женщины украшают жизнь, и, разумеется, сей тезис можно отнести к их облику, духовному настрою, их поведению, их запаху и, наконец, их способности любить. Но лишь незрелые умы закончат этим, остановившись на рубеже, где начинается главное: тайна. Тайна, загадка, секрет… Женщины дарят их нам, и лишь последний недоумок усомнится в ценности этих сокровищ.
«Вы не слепец… Многие слепы, но только не вы…»
Понимай как хочешь: может, имелась в виду вуаль, а может, и нечто другое. Ну, поживем – увидим… Я ведь и в самом деле не слепец.
Эти раздумья не мешали мне осуществлять рабочую функцию: смотреть, анализировать, запоминать. Слушать – увы! – было почти нечего, кроме проклятий Мак-брайта, возившегося где-то неподалеку. Голос Джефа казался настырным, как комариный зуд, и, постепенно удаляясь от него, я двинулся к развалинам мечети. Ее минарет и купол с фронтальной стеной рухнули на маленькую площадь, смешавшись с развалинами оград и домов, задняя и боковая восточная стены тоже не устояли, но западная лишь обвалилась до половины, обнажив древнюю прочную кладку. Здесь, к своему изумлению, я обнаружил то яркое пятно, которое заметил с края котловины. Оно и в самом деле оказалось ковром, из тех, какими устилают пол в мечети, багряно-коричневого оттенка, потертым, грязным и весьма изношенным. К тому же сохранился только кусок ковра, полоска в пару шагов шириной у самой стены, а все остальное истлело, напоминая теперь черный низкорослый мох. Тут и там валялись груды битой черепицы с кровли, но граница между целой и истлевшей частью сразу бросалась в глаза, словно ее прорезали ножом. Четкая плавная линия, похожая на параболическую кривую…
Подумав о ноже, я вытащил мачете и, приподняв край разреза кончиком лезвия, осмотрел его. Никаких следов от режущего инструмента либо термического или химического воздействия – нити не размахрились и не выглядели обожженными. Только старыми, очень старыми… Здесь, в Анклаве, не было дождей и резких температурных перепадов, так что ковер в сухом недвижном воздухе мог сохраняться хоть двести лет – и, как подсказывал мой опыт археолога, на столько он и выглядел. Но сгнившая часть казалась древнее, намного древнее! Если б ее поливало персональным дождиком, прихватывало морозцем и сушило солнцем, она превратилась бы в труху за считанные годы, но при прочих равных с сохранившимся куском этот процесс занял бы доброе тысячелетие. Нонсенс, парадокс!