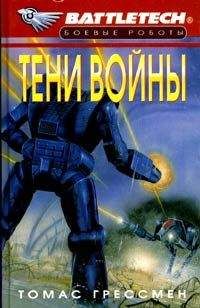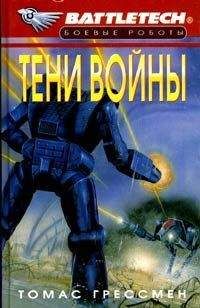Елена Ершова - Неживая вода
А важна была только она. Только вещая птица, распростершая крылья над зачарованным миром. И тот из людей, кто голос ее услышит, пленится песнями и забудет обо всем на свете. И до той поры будет скитаться, пока не упадет замертво.
Часть 3
Нет в сердце зла
Я – пущенная стрела.
Нет зла в моем сердце, но
кто-то должен будет упасть все равно…
Э. Шклярский1
Все окунулось в дым. Все стало дымом: и проносящиеся мимо вагоны, и разбитое здание вокзала, и телеграфные столбы. Разлетелись дымными лоскутьями и провожающие, и торговки пирожками. Под ногами закачался и пошел трещинами старый перрон.
Поезд уходил, подбирая волочащийся дымный шлейф. Игнат чихнул несколько раз, вытер рукавом слезящиеся глаза. Вот показалось: плеснуло в стороне рыжим сполохом – это ребячья пятерня взлохматила непослушные вихры.
– Эй, Сенька! – окликнул Игнат. – Стой!
Мальчонка обернулся. Некоторое время тревожно выискивал окликнувшего. Вот взгляды пересеклись. А потом мальчик сорвался с места и кинулся прочь, ловко петляя между людьми.
– Да постой же!
Рыжая макушка нырнула и пропала в людском потоке. Потом появилась снова, но чуть дальше и левее. Не упустить бы!
Игнат бросился следом.
Сердце гулко отсчитывало удары, и, прижимая ладонь к ребрам, Игнат чувствовал прикосновение металла к вспотевшей коже. У него был ключ. Но у кого замок?
Мальчик снова забрал влево, и стало понятно, что бежит он к зданию вокзала. Поэтому Игнат без колебаний нырнул в самую толпу, надеясь сократить путь. И со всего маху влетел в дородную пирожницу. Деревянный лоток в ее руках подскочил, ветром взметнуло салфетку, и Игната осыпало взвесью из ванили и сахарной пудры.
– Ах ты! Черт безглазый! – завизжала тетка. – Гляди, куда летишь!
Игнат отпрянул, ладонью обтирая лицо, пробормотал что-то неразборчивое. Он попробовал обогнуть пирожницу, но та тяжело уронила на Игнатово плечо мясистую ладонь.
– Куды! А платить кто будет?
Игнат в отчаянии окинул проходящих мимо людей. Кто-то замедлил шаг и бросал на него заинтересованные взгляды, отчего внутри свернулся колючим комом страх. А рыжий вихор уже тонул в пестром людском потоке, и пирожница открыла густо напомаженные губы, чтобы призвать в свидетели начавшую собираться толпу. Тогда Игнат дернулся, указал пальцем вперед и хрипло вскрикнул, стараясь перекрыть лязг уходящего состава:
– Вор, вор! Кошель украл!
И засвистел, как когда-то в далеком детстве, распугивая голубей.
Пирожница опешила и сразу же отпустила Игната. А он, почуяв свободу, рванулся с места, теперь уже без стеснения распихивая толпу локтями и продолжая выкрикивать:
– Держите вора! Вон тот, рыжий!
Мальчишка вильнул в сторону и припустил пуще прежнего, словно донесшийся до него крик хворостиной стегнул промеж лопаток. Еще немного – и пропадет, скроется в разбитом здании вокзала. А оттуда – через черный ход. Затеряется в городской суматохе или дернет к западу, нырнет в густую еловую посадку и навсегда унесет с собой тайну, ради которой Игнат муки терпел, и душу нечистому продал, и предал верную свою Марьяну…
От отчаяния и злости на глазах выступили слезы. Игнат сжал кулаки, всей душой призывая на помощь могущественную, но темную силу, которой добровольно доверился в обмен на возможность прикоснуться к зловещей тайне. И сила откликнулась.
Наперерез мальчишке выступил сурового вида мужик в спецовке станционного смотрителя, растопырил руки, и беглец по инерции влетел в него, как плотва в расставленные сети. Забился, заголосил пронзительно:
– Дяденька! Ни в чем я не виноват, дяденька!
– Разбере-емся! – густо протянул смотритель и сощурил глаза.
Мальчик проследил за его взглядом, заметил приближающегося Игната и заревел в голос.
– Ну, будет! – мужик встряхнул его за ворот. И сердце Игната, все еще тревожно колотящееся в груди, сжалось.
– Да пусти… чего уж там, – примирительно проговорил он.
Смотритель хмыкнул в усы и ответил без злобы, но со знанием дела:
– Обыскать его надо, воришку. А потом в полицейский участок. И пусть там разбираются, кто таков и чего у добрых людей еще украл.
– Не вор я, дяденька! Ей-богу, не вор! – заревел Сенька.
– Там разберутся! – прикрикнул на него смотритель. – Знаю я вас, баламутов этаких! Чуть ли не каждый день поштучно на вокзале отлавливаю!
Он снова тряхнул парнишку, и Игнату стало совестно.
– Да я сам разберусь, правда. Может, и не он украл…
Смотритель некоторое время пялился на Игната, сдвинув брови, потом сплюнул и проворчал:
– Так сначала разберись, вор это или не вор, чтобы добрых людей в заблуждение не вводить! А тебя, – он погрозил мальчишке темным от табака пальцем, – я еще раз здесь увижу, так метлой по спине отделаю, что надолго дорогу забудешь!
Встряхнув Сеньку в последний раз для острастки, смотритель разжал хватку, подобрал метлу и побрел прочь, все еще недовольно бурча под нос.
– Не вор я, дяденька пан! – в отчаянии повторил мальчик и протяжно шмыгнул носом. – Ты ведь мне сам за часы заплатил! Нешто теперь на попятную?
Он поднял чумазое лицо, по которому уже проложили дорожки слезы.
– Успокойся, – потрепал Игнат по рыжим вихрам. – Денег я у тебя не отберу. Заработал – владей.
– Как же, – проворчал мальчик. – Так мне батя их и отдаст. Поди, на брагу все спустит.
Он снова шмыгнул носом. Игнат с любопытством и жалостью вгляделся в его лицо – конопатое, не по годам серьезное. Такие лица он встречал в интернате. Рано повзрослевшие, эти дети стали сиротами при живых родителях – те или спились, или отбывали наказание на каторге. И оттого доля таких детей была не менее горька, чем у полных сирот, вроде самого Игната. Он снова протянул руку, чтобы ободряюще потрепать мальчишку по плечу.
– Так отведи меня к бате, – предложил Игнат. – Я сам с ним поговорю. Очень уж мне часы твои понравились. Я бы еще диковинок прикупил, если имеются.
Сенька недоверчиво поглядел исподлобья, словно проверяя, не врет ли этот странный молодой пан? Потом ответил:
– Да этого добра у нас навалом. Только расходится плохо. Уж больно затейливые штучки. А ты перепродавать, чай, возьмешься?
– Может, и возьмусь, – усмехнулся Игнат и протянул мальчику ладонь. – Если с батей договоримся. Так по рукам?
Сенька сопел, думал.
– Ты только вором меня не кличь больше, – буркнул он, не торопясь пожимать протянутую руку. – Я в жизни своей ничего не украл! Слышишь, пан? Не украл и не собираюсь!
Он вскинул подбородок и теперь уже совершенно сухими глазами с вызовом глядел прямо в лихорадочно блестящие глаза Игната. Тот ждал, не опуская руки, и чувствовал невольное уважение к этому маленькому, рано повзрослевшему мужичку, а потому сказал серьезно и искренно:
– Прости меня, Сень. Виноват. Не буду больше на тебя поклеп возводить. Веришь?
Сенька вздохнул, а потом лицо его разгладилось, в уголках губ появились ямочки.
– Ладно уж, – проворчал он, будто нехотя. – Верю.
И только потом неторопливо, по-взрослому пожал протянутую руку.
По дороге они разговорились.
Сенька жил с отцом недалеко от станции и время от времени бегал сюда продавать «затейливые штучки», как он сам называл привезенный отцом товар. Откуда они появлялись и что собой представляли вообще – мальчик не знал, только рассказывал, что в основном это были колбочки, подсвечники и часики «блестючие, как у тебя, пан». Именно их с наибольшим удовольствием разбирали заезжие гости, а прочее добро и вовсе спросом не пользовалось, так и лежало в сарае грудой ненужного хлама.
– Так откуда, говоришь, их отец привозит? – с нескрываемым любопытством переспросил Игнат.
Сенька пожал острыми плечами.
– Чего не знаю, того не знаю, дяденька. Он мне не говорит, только уезжает далеко на север – каждую весну, когда снега сойдут. А как приедет, покрутится и снова в путь. Это хорошо, если по приезде пьянствовать не начнет. А когда начнет… хоть святых выноси.
Сенька махнул чумазой ладошкой, будто говоря: «Чего уж там. Дело привычное».
– Что ж его мамка твоя не осадит? – спросил Игнат.
Он вспомнил, как бабка Агафья лупила пьяного Ермолу, вспомнил своих земляков и невесело усмехнулся.
– А нет у меня никакой мамки, – простодушно ответил Сенька и пояснил: – Померла от болезни.
– Прости…
– Ничего, – с деланым равнодушием отозвался мальчик. – Давно это случилось. Тогда батя и выпивать начал. Жениться бы ему, – тут Сенька вздохнул и покачал вихрастой головой. – Не женился. Да что теперь рассуждать…
«Я своих родителей и вовсе не помню, – подумал Игнат. – И могилы не навестил. Как тяжело, должно быть, этому мальчику…»