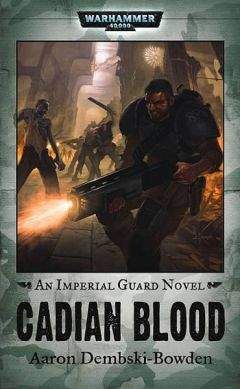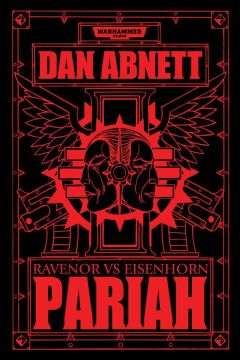Наталья Игнатова - Змееборец
Лови момент, сиэх![38] Ты чувствуешь, слышишь, сейчас эти люди не разумом – сердцем примут каждое твое слово. Каждый слог твоей песни…
Кто другой, может, и смог бы остановиться, потому что здесь и сейчас это было наилучшим вариантом. Йорик не смог. И сам с легким изумлением восхитился чистотой и ясностью сорвавшейся из-под пальцев музыки.
Его музыки.
И я достаю из-за пояса меч —
это средство от злых людей…
…И я достаю флейту —
это средство от боли в груди.
Я играю на ней для лесных зверей,
бродяга и лицедей.
Я засну и проснусь и увижу вокруг себя
их пропахшие кровью следы…
– Язви тебя, – капрал замер, не донеся аскад до кошеля, – то ж покойник Хазак…
– Господин Хазак… – пролепетал музыкант, – маэстро… на моей лютне…
Йорик только ухмыльнулся, и закрыл глаза, вызывая в памяти облик Легенды, Удентальской Вдовы, для которой когда-то (просто так, чтобы позлить лишний раз), была написана эта песня.
Моя госпожа боится песен
о сладости ее губ.
Она думает, я – это цепь, что ломает
хрупкое чудо плечей.
а я только ветер в ее волосах, и другим я стать не смогу.
Ибо выше моей госпожи свобода,
я ее вассал – и больше ничей.[39]
Последний аккорд, последний, серебряно-синий звон струн, которые просто не могли так звучать. Это лютня, обычная лютня. Глубокий, печальный отзвук погасал под низкими сводами зала, в полной тишине. Долго. Йорику как раз хватило времени подумать о том, сколько человек, из тех, что слушали его в почти благоговейном молчании, побегут доносить, как только десятиградцы отойдут от дверей.
А еще о том, каким чудом прижилось в этих краях заграничное слово «маэстро».
– Насчет покойников-то и распоряжений никаких нет, – потерянно заметил капрал, – арестовать или там еще чего… а как, ежели он помер?
– Доложить обо мне тебе никто не мешает, – Йорик забросил лютню за спину, машинально, даже не подумав о том, что инструмент-то чужой. – Вот и доложи, мол, Йорик Хас… гм, Ярни Хазак и Эльрик де Фокс объявились в Вайскове.
– Главное, не перепутай ничего, – подхватил де Фокс, – а то знаю я вас, так и норовите имя переврать.
– Не перепутает, – Йорик обвел глазами зал, чуть повысил голос, – доложи, что Ярни Хазак приехал в Вайсков, чтобы узнать, помнят ли здесь еще юную княжну Ядвигу. Поклонятся ли ей, как госпоже, когда я заставлю Удентальскую Вдову убраться из Гиени?
…Все неожиданно. Спонтанно. Все кувырком, и ладно хоть не вдребезги. Йорик хотел бы разозлиться на де Фокса, на преступную легкомысленность, на непредсказуемость, из-за которой события приобретают опасную остроту, и почти не остается времени на то, чтобы сориентироваться в ситуации, но не было ни злости, ни возмущения. А было вдохновение – как волна, и веселое кипение крови, и обострившиеся чувства – все шесть, выхватывающие из разом взметнувшегося гула голосов отдельные, осмысленные вопросы и возгласы.
Да, Ядвига жива. Ей четырнадцать лет, и она превратилась в настоящую красавицу. Да, она похожа на своего отца, погибшего от рук наемников Удентальской Вдовы. Да, характером она удалась в свою матушку, чья смерть тоже на совести королевы Загорья. Да, она помнит о своих подданных, болеет за них душой, и всем сердцем стремится вернуться на родную землю…
Что?…
Ох, вот этот вопрос оказался полной неожиданностью. Йорик сохранил лицо, и со всей возможной убедительностью сообщил, что нет, у него и в мыслях не было взять юную Ядвигу в жены. Он – всего лишь бывший капитан удентальской гвардии, а княжна непременно найдет себе мужа, равного ей и по происхождению, и по воспитанию.
– Это все, конечно, неплохо, воспитание там всякое, – прозвучал из глубины зала раздумчивый, громкий голос, – но с Уденталем породниться, все– таки, было бы лучше.
Обладатель голоса, похоже, выразил мнение большинства. Его поддержали согласным гомоном. Оризы тоскливо шныряли глазами по залу, безнадежно пытаясь запомнить всех потенциальных бунтовщиков.
– Опять же, женишься – воеводой станешь, – напомнили Йорику с другой стороны, – воеводе с королевой воевать сподручней, чем татю лесному. Или Ядвига наша тебе не хороша?
Де Фокс откуда-то из-за плеча издал тихое, но отчетливо-насмешливое шипение. Или это Дхис с комментариями вылез?
– Княжна Ядвига прекрасна, – заверил Йорик, – но замуж выходят по родительскому сговору, или по любви. Покойный воевода прочил свою дочь в жены моему господину, Лойзе Удентальскому. Лойза убит, стало быть, теперь Ядвига вольна выйти замуж за того, кого она полюбит.
– Так постарайся, – посоветовали ему сразу с нескольких сторон, – или про любовь ты только песни складывать можешь, а как до дела доходит – за саблю и на войну?
– Маэстро верен своей единственной любви! – вдруг звонко и абсолютно не вовремя встрял позабытый всеми певец. – Сердце его принадлежит Лене Удентальской, все песни его – о ней, и пусть жестокая Вдова не способна любить, ее ледяная душа не остудит пламени в душе поэта…
В зале вновь стало тихо.
Йорик обернулся к де Фоксу и спросил, тщательно подбирая слова на зароллаше:
– Ну, и зачем ты выручал этого ушлепка?
– Командор, – шефанго ослепительно улыбнулся, – этот ушлепок только что спас тебя от женитьбы.
* * *В зале засиделись до утра, почти до позднего в эту пору рассвета. Оризов так и не выпустили. Де Фокс и его десятиградцы, еще в самом начале стихийно организовавшейся конференции, загнали бедолаг в погреб, да там и заперли до утра, велев, правда, хозяину гостиницы ни в чем пленникам не отказывать. Так что те пропивали на троих золотой штраф, но, по крайней мере, сидели тихо, и на волю не просились.
Йорик тоже пил. И пел. Давно, казалось бы, ороговевшие кончики пальцев начали болеть от жестких струн. И голос сел. Но петь просили еще, и еще. Это было что-то, наполовину забытое: петь не для своих, не для солдат, а для чужих, еще пару часов назад незнакомых людей.
Так странно снова чувствовать, как твои стихи, твоя музыка захватывают, цепляют за душу тех, кто видит тебя в первый раз, кого ты сам видишь впервые. Пока звучит песня, те, кто слушают ее, настраиваются с певцом на одну эмоциональную волну, как будто становятся эмпатами. Как будто они способны тебя понять…
Может и способны. На недолгие, заполненные музыкой минуты.
Невинных пули не секут – невинных нет.
А прошлое – оно прошло – прошло, как бред.
И в этом небе тишина погасших звезд,
Горит ущербная луна – горбатый мост.
Здесь, в этой жизни, Йорик складывал песни, пока служил Лойзе, и потом, в Картале. Стихи заливали сердце расплавленным металлом, стихи жгли, и, чтобы не сгореть, их следовало перелить в формы слов и фраз, закалить, сбить все лишнее и с музыкой выпустить на свободу.
Бродячие поэты и музыканты подхватывали его песни, разносили по всем воеводствам, и слухи о том, что Ярни Хазак, убийца и предатель, вовсе не погиб, как заявила королева, разбредались по Загорью вместе с новыми песнями. Королева лгала в одном, может быть, она лгала и в другом?
На сердце пеплом – боль потерь… и боль разлук.
Ушел – куда-то или в смерть – вчерашний друг.
Пылает праздничным костром забытый дом,
Забыто все… Напрасно все. Гори огнем…
Кто же виновен в гибели Лойзы Удентальского? Кто виновен в гибели всех других воевод? Их жен и детей, их семей вплоть до самых далеких родственников? И долго ли вольные люди воеводств будут терпеть над собой власть женщины, отнявшей жизнь у их законных правителей?
Песни Йорика не спрашивали об этом.
Но те, кто пел их, и те, кто их слушал, рано или поздно начинали задавать себе вопросы.
И сейчас музыкант, чья лютня страстно и самозабвенно отдавалась музыке, благоговейно повторял вслед за Йориком слова каждой песни. Одними губами. Опасаясь подать голос. Но и этим парень был счастлив.
На сердце выжженным клеймом – моя вина,
Но боль – пустяк. Не до нее – идет война.
Потерь цена, цена побед – тоскливый бред.
Невинных пули не секут – невинных нет.[40]
Дурень, он дурень и есть. Не заживется такой на свете.
Звали музыканта, как выяснилось, Жиндик Худьба. Правда, назваться он сообразил, только когда Йорик протянул ему лютню, и посоветовал впредь быть осмотрительнее.
Выпущенные из подвала оризы первым делом кинулись не в участок с доносом, а – в отхожее место. И то сказать, шутка ли – всю ночь наливаться густым местным пивом.
– Маэстро! – взвился певец, – вы же не уедете без меня? Я Жиндик, Жиндик Худьба, меня знают по всей Гиени… я на службе у пана Серпенты…