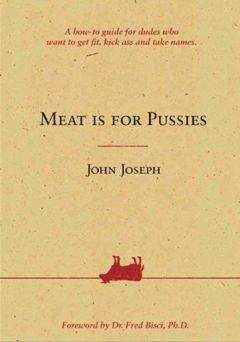Олег Верещагин - Чужая земля
После первой короткой растерянности за оружие взялось население пограничных планет. Вражеским десантникам пришлось воевать не только с регулярными частями гарнизонов, но и с решительным и многочисленным ополчением. А самое главное — наш флот оказался лучше подготовлен к войне. Специалисты решили позже, что фоморы, наверное, уже долго не встречали хотя бы приблизительно равного по силам врага и «растренировались», так сказать.
В 192 году Г.Э. в сражении у Веги фоморы потерпели страшнее поражение. Наш адмирал, Бакланов заманил их армаду в ловушку и почти полностью уничтожил, а затем последовательно и безжалостно стер в пыль две десантные эскадры. Потом в космос бросили сеть из крейсеров и методично вылавливая спасшиеся корабли врага. Было взято множество пленных и, хотя даже командиры кораблей почти все требовали истребить их, адмирал сказал, что не позволит нарушать правила и законы войны. Фоморам дали несколько грузовиков и проводили под конвоем до границы.
Но фоморы не успокоились. Она не только заблокировали очень перспективное направление нашей экспансии, но и то и дело организовывали налеты и провокации, снюхивались с Чужими — все такое прочее. Вот и тем летом, когда я пел песни у костров в Амазонии и продирался через джунгли…
Отец уже два года командовал своим кораблем — корветом «Буря». В том году у них с мамой не совпали отпуска, и, когда я отказался от поездки, мама улетела к отцу. Говорят, на базе шутили, что женщина на корабле — к несчастью, была когда-то такая примета, ещё во времена древних парусных флотов.
Если бы я согласился лететь, с ней — она бы не оказалась на той базе. Мне сказали, чтобы я не смел об этом думать, но мысль эта проползает сквозь блокировку, как змея.
Не оказалась бы.
Рейдер сторков напал на рудовоз одной из союзных рас. Отцовская «Буря» и еще два корвета ушли на помощь. На базе остались только полдюжины истребителей. Что они могли сделать против линкора фоморов?
База продержалась шестнадцать часов. Этого времени хватило корветам, чтобы разобраться — их просто выманили подальше. Они даже успели вернуться.
Вот только база была уже почти полностью разгерметизирована и почти вся горела.
Линкор не успел уйти просто так. Корветы бросились на него, как бросаются на огромного хищнике маленькие зверьки, отчаянно защищающие свое гнездо. Был бой. Все три корвета получили тяжелейшие повреждения. Но и те подонки на своем разбойничьем корыте еле убрались за границу.
Мой отец, капитан-лейтенант Императорского Военно-Космческого Флота Вячеслав Андреевич Муромцев, пал смертью храбрых на боевом посту. Ракета попала прямо в боевую рубку. Там ничего не осталось. И никого.
Маму не нашли. Уцелевшие рассказали, что она была в скафандре, но отдала его раненому стажеру-кадету — у того скафандр распороло в нескольких местах — а себе взяла простую кислородную маску для внутренних работ по кораблю и комбинезон.
Что такое маска и комбинезон, когда со скрежетом лопается борт, визжит рвущийся наружу воздух, и внутрь вваливается абсолютный нуль с искрами звезд? Что такое маска и комбинезон, когда, хлюпая, текут расплавленные адским жаром переборки? Что такое маска и комбинезон, когда почти в упор, как в планетарном бою, избивают борта станции импульсаторы фоморов?
Тот кадет — на четыре-пять лет старше меня тогдашнего — прилетел ко мне сам и все рассказал.
Помню, как я прошёл мимо него. Вышел в коридор. А там было никак.
Первый раз в жизни я потерял сознание.
Это было три года назад.
2
Поставив пятки на край скамьи и обхватив колени руками, я сидел на самой окраине Парка Памяти, недалеко от берега Байкала.
Огромное багровое солнце вставала над озером, над отрогами Приморского хребта. Ровный сильный ветер — знаменитый баргузин, — казалось, раздувает солнце, как уголь, чтобы оно поскорей засияло вовсю, чтобы поскорей настал настоящий день…
…Вот так я остался сиротой.
Конечно, я не один такой был в нашем лицее. Почти у четверти не было отцов, человек у десяти матерей, а двое иди трое, как говорится, вообще круглые сироты. Да и «сирота» в наши дни — это не то, что в древние, времена. Ясно было, что меня не бросят ни лицей (а значит, — сам Его Величество!), ни Флот, да и вообще… Тут же начались телевизиты сперва нашей родни, потом — полузнакомых и вовсе незнакомых людей, которые предлагали опеку, помощь, просто сочувствовали. Пашка с Океаниды прорвался и сообщил, что его родители готовы оформить опекунство, он уговорил… Ребята — и одноклассники, и из других классов — подходили с чем-то похожим — я, если честно, толком не помню, кто… Конечно, опекунство оформил лицей и для меня в жизни, казалось, ничего не изменилось… кроме одного.
С тех пор после 25 июня мне некуда стадо собираться. И не к кому.
Понимаете? Нет?
Хорошо, что нет.
Сперва я хотел покончить, с собой. Такое право есть у любого человека. Если вдруг почему-то он понимает, что жить больше не имеет смысла — его никто не осудит. Это бывает. Редко, но бывает… Но в школе меня научили разбираться в себе и анализировать свои поступки и их причины. Я понял, что это просто растерянная тоска — и остался жить.
Но я словно бы замерз изнутри. Нет, я не сидел, сложа руки на коленях и уставившись взглядом в никуда, как человек, побывавший в плену у джаго, которому стерли память и которого надо собирать по кусочкам, как расколотую вазу. Я продолжал учиться, занимался спортом, ходил на факультативы, играл в лицейском театре, разговаривал и даже иногда смеялся. Но я чувствовал — внутри меня сидит острый ледяной кристалл. Временами мне казалось, что я сам постепенно превращаюсь в такой кристалл — как расхотевший жить дайрис. Папа видел их пленных и рассказывал, что у них так бывает.
Так я прожил год.
Помню, что утром 25-го я проснулся в солнечном настроении, потому что сегодня…
Так было всего одну секунду. Потом я все вспомнил.
Я встал, привел себя в порядок. Собрался. Предупредил всех, что уезжаю на каникулы. Меня проводили до станции — и я уехал в Верный, где вот уже два века стоял наш родовой особняк.
В Портретной Галерее я увидел портрет отца, заключенный в георгиевскую рамку.
Я повернулся к Василию Андреевичу, нашему управляющему. Я хотел закричать, чтобы он не смел, чтобы он снял немедленно, чтобы… А вместо этого шагнул к нему, уткнулся в его мундир — и захлебнулся слезами. Первый раз с шести лет, когда меня увозили в лицей.
Я плакал навзрыд, забыв, что на мне лицейская форма, что я мужчина, что мне тринадцать лет и недавно я получил право носить оружие. А старик гладил меня по голове и шептал:
— Плачь, Игорь, плачь… Сейчас плакать не стыдно… Все воины плачут, когда уходят отец и мать… все воины плачут, когда погибает друг… все воины плачут, когда ранят в живот… плачь, мальчик, плачь…
Я плакал долго-долго. А когда затих, совсем обессилев — понял, что мне стало… легче. Словно растаял и вышел слезами тот страшный кристалл, разрывавший меня изнутри весь тот год.
Больше я дома не был. На следующих каникулах я улетел на Марс. К геологам. А следующий год был последним…
… Я спустил ноги со скамьи, нашарил туфли, но вставать не стал, а просто оглянулся. За моей спиной, среди разбросанных в кажущемся беспорядке кустов и деревьев Парка, возле хаотичных дорожек, стояли в траве люди. Неподвижные. Много…
Такой Парк есть в каждом лицее и даже в некоторых обычных школах. В нем устанавливают стабильные голограммы выпускников — или даже учеников — которые прославили себя, школу и Империю. На войне иногда, а иногда в мирное время, в науке, исследованиях, работе… Не статуи, а именно голограммы, безо всяких постаментов — так, что кажется, что просто живые люди стоят и любуются на зелень, небо, птиц…
Там есть мой пра-пра-прадед, Радослав. Его проще называть по имени, потому что он был совсем молодым, когда погиб, даже пра-прадед еще только должен был родиться. Радослав Игоревич Муромцев открыл две Луны и планету Рада. Вернее, тогда еще ее не назвали Радой… Это была большая и красивая планета как раз того типа, что больше всего подходит людям. Но буквально через неделю после высадки для первичного исследования на нее — тогда еще просто номерную — опустились два рейдера сторков.
У них было в двадцать раз больше бойцов, чем на корабле пра-пра-прадеда. В таких случаях надо отступать, и сторки даже были готовы предоставить Радославу такую возможность. Но он уже поднял над планетой черно-золото-белое знамя России. И он сказал на коротких переговорах: "Никогда не будет спущен русский флаг там, где он поднят единожды."
Говорят, он не сам придумал эти слова, их сказал их первым какой-то древний адмирал еще земного, морского флота. Но разве это важно? Важно то, что, когда через две недели эскадра Флота пришла к номерной планете, флаг еще развевался над выжженной, оплавившейся, раскуроченной посадочной площадкой, подтверждая право этой земли именоваться РУССКОЙ.