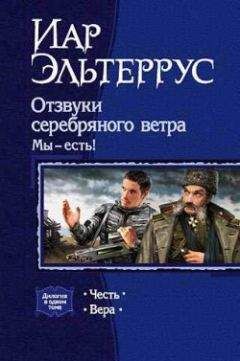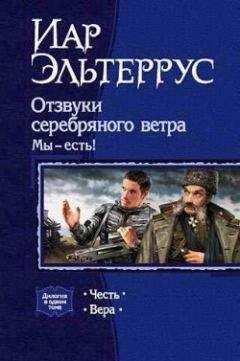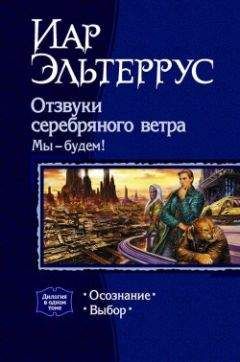Иар Эльтеррус - Иная терра
III. VI
Единство в вере — святое «мы»
Через вселенную призови
Костер полыхал жарко, щедро рассыпая вокруг маленькие, беззлобные искорки. Виктор метнул шишку — прицельно, с другого конца поляны — крохотные огненные мушки взвились вверх из пламени, а через несколько секунд затрещало, и к небу рванулся густой сноп искр. Виктор хмыкнул, наклонился за новой шишкой. — Почти готово, — преувеличенно радостно объявил Гранд, в последний раз переворачивая шампуры на мангале. — Это хорошо, я уже проголодался, — странно-неестественным голосом отозвался Алик, прикуривая сигарету от уголька предыдущей, и отправляя окурок в костер. Стас скрипнул зубами, медленно оглядел поляну, стараясь не задерживать взгляд ни на одном из присутствующих. Они чувствовали его смятенное состояние, ощущали висящее в воздухе напряжение, понимали его причину, но не торопились разряжать атмосферу. Они ждали ответа — и они имели право его требовать. Вот только пока что никто не мог решиться озвучить вслух то, что терзало всех восьмерых в той или иной степени, хоть и всех по-разному. Женя Алфеев перестарался, пытаясь оправдать Стаса в собственных глазах — он перестал верить себе самому, и теперь против собственной воли видел, насколько же шатки его аргументы в защиту друга. Инга Алфеева определила для себя все, что могла определить — но по давней своей привычке допускала, что просто не знает чего-то, что сможет все объяснить. Азамат Зулкарнов единственный из всех готов был озвучить вслух все претензии, но, уже делая шаг вперед и открывая рот, он ловил умоляющий взгляд Алика — и отступал. Виктор Галль, в течение двух лет лелеявший надежду на возвращение Стаса, а потом всего за полтора месяца взрастивший обиду на отказавшегося от них командора, был полон решимости, ему нужен был только катализатор — но катализатора не было. Саша Годин, раз за разом сбиваясь, пытался четко определить состав преступления, учесть все обстоятельства — как смягчающие, так и отягчающие — и вынести справедливый приговор, но как только ему удавалось перейти к стадии этого самого вынесения приговора, как оказывалось, что он опять забыл что-то учесть. Саша Лозаченко, как и всегда, держалась в стороне — толком не зная подробностей произошедшего, она просто радовалась возвращению Стаса и так же просто обижалась на то, что его так долго не было — вне зависимости от того, были ли причины отсутствия молодого человека уважительными, или же нет. А Алик Гонорин… Алик просто все заранее простил, ни на что не обижался, ничего не собирался высказывать, и от понимания этого в душе прочно поселилась обжигающая горечь вины. А еще был Гранд, и как раз с ним оказалось проще всего. Они встретились в тот же вечер, когда Ветровский приехал к Алику… — Алькано, ты у себя? — спокойно спросил Алик, взглядом прося Стаса молчать. — Хорошо. Ты не мог бы спуститься ко мне? Нет, я еще в кабинете. Да, сейчас. Это важно, правда. Спасибо. Я жду. — Ты уверен, что это хорошая идея? — тихо осведомился Ветровский. — Я неплохо знаю твоего друга, и считаю, что могу с полным правом называть его и своим другом тоже, — с улыбкой ответил Гонорин. — Подготавливать его к встрече бессмысленно, оттягивать встречу — только подливать масла в огонь. Лучше так. — Тебе виднее, — Стас склонил голову, стараясь не замечать, что Алик нахмурился при виде этого жеста. Алик вообще очень нервно реагировал на каждую демонстрацию его, Аликова, превосходства. Оставшиеся до прихода Алькано минуты прошли в молчании. — Звал? — просунулась в приоткрывшуюся дверь лохматая голова, вид которой мгновенно пробудил в памяти Стаса мгновения, которые он, казалось, давно уже забыл. — Да. Хотел тебе кое-кого… В этот момент Гранд увидел Ветровского. В его глазах отразились десятки самых противоречивых эмоций — от сумасшедшей радости до почти что ненависти — а потом испанец быстро пересек кабинет и остановился, не дойдя одного шага до потерянного несколько лет назад друга. — Стек, — жестко произнес он, глядя ему прямо в глаза. — Ты вернулся. Стас отвел взгляд. — Да, — тихо ответил он. — Вернулся. — Это хорошо, — хладнокровно сказал Гранд. А потом ударил — коротко, без размаха, но сильно. Стас отшатнулся, машинально прижимая ладонь к разбитой губе, а Гранд отступил на шаг, окинул визави долгим взглядом, резко развернулся на каблуках, и вышел. — …показать, — договорил Алик вслед Алькано. — Ты все еще считаешь, что это была хорошая идея? — Да. Поверь, я его знаю, — по губам Гонорина вновь скользнула мягкая улыбка. — В любом случае, он прав. Это еще самое меньшее, что я заслужил, — с горечью сказал Ветровский. — Стас, я, конечно, не могу встать и дать тебе по морде с другой стороны, но зато я вполне в состоянии запустить в тебя, к примеру, прессом для бумаг. Я уже наслушался твоего «виноват, виноват, виноват», и больше не хочу. Ты вернулся — этого довольно. Через несколько минут, вновь прошедших в лишь единожды нарушенной щелчком зажигалки тишине, дверь опять открылась. Гранд быстро вошел, пинком закрыл дверь, поставил на стол бутылку водки и три стопки. — Закуски не нашел, — как ни в чем не бывало, сказал он. Ветровский, ни говоря ни слова — во-первых, от изумления, во-вторых, он все равно не знал, что можно было бы на такое сказать — полез в свой рюкзак за последним кольцом домашней колбасы. Алькано наполнил стопки до краев, небрежно накромсал колбасу. — С возвращением, — улыбаясь, сказал он. Чокнулись, выпили, закусили. — А теперь — рассказывай, — потребовал испанец. И Стасу почему-то оказалось совсем нестрашно выполнить это пугавшее его еще несколько минут назад требование. Да, с Грандом оказалось на удивление просто. И Ветровский прекрасно понимал, что с остальными ему так не повезет. Да и не заслужил он всего этого! Ни понимающей улыбки Алика, ни прощения орденцев, ни тем более — этого удара, снявшего с него большую часть вины перед Алькано. Стасу до сих пор было интересно — понимал ли сам юный испанец, что он сделал? Имея право не простить, он имел право также и на месть. И он отомстил — съездил старому приятелю по физиономии, поставив тем самым жирный крест на всех обидах. — Стас, мясо стынет! — окликнул его Алькано. — Спасибо, — сказал Стас, машинально взял протянутый шампур, машинально же начал есть, не чувствуя вкуса. Его план, выглядевший таким безупречным и идеальным еще пару часов назад, теперь казался глупым и смешным. Но за неимением другого… Расправившись с шашлыком, Ветровский подошел к костру. Установил треногу, повесил над огнем наполненный вином котелок. Пока вино нагревалось, он нарезал яблоки и апельсины, вытащил из кармашка рюкзака приправы. — Глинтвейн? — удивился Алик, подъезжая чуть ближе. — Ага. — Ты же вроде всегда был категорически против алкоголя на собраниях ордена, не считая символического бокала вина на человека в честь каких-нибудь особых событий? — Во-первых, глинтвейн — это уже не совсем алкоголь. Да и холодно сегодня, никому не помешает согреться. А во-вторых… Алик, я, наверное, глупость делаю, но ничего умнее этой глупости мне в голову не лезет. А делать что-то надо. И пусть лучше будет глупость, чем ничего, — заключил он. — Хорошо, как скажешь. В конце концов, я просто поинтересовался. Дождавшись момента, когда вино почти что закипело, Стас быстро снял котелок с огня, положил фрукты, мускат, корицу и гвоздику, накрыл крышкой — пусть настаивается. Потом отошел чуть в сторону, жестом поманив за собой Гранда. — Что-то придумал? — поинтересовался тот, с интересом глядя на мешок, который Ветровский держал в руках. — Еще не знаю. Но если все получится — мне будет нужна твоя помощь. — А если не получится? — Тогда вы без затей выпьете глинтвейн без меня. — Значит, получится, — пожал плечами испанец. — Что я должен сделать? — Если все получится — перелей глинт сюда и дай мне. — А как я пойму, что все получилось? — Поверь, ты не спутаешь. — Ты, главное, сам не спутай, — хмыкнул Гранд, забирая мешок. Открыл, заглянул, удивленно присвистнул. — Однако! Интересная вещица. — Мне тоже нравится. Если что — останется у вас, думаю, найдете ей применение. — Стек, уйми свои пораженческие настроения, — Алькано поморщился. — Давай, вали, и делай, что должно. — И свершится, чему суждено, — с усмешкой закончил Стас. — Именно. Оставив Гранда, молодой человек отошел на десяток шагов, сел на чуть влажную землю, закрыл глаза, глубоко вдохнул. Теперь самое главное — не ошибиться. Не попытаться сказать что-то так, как хотелось бы, а не как есть. Не попробовать невольно себя оправдать. Не солгать ни словами, ни чувствами, ни взглядом. Шанс только один, и другого не будет больше никогда. Через пятнадцать минут Стас вернулся к костру. За время его отсутствия что-то неуловимо изменилось. Казалось, атмосфера достигла пика напряжения, воздух едва не искрился от накала эмоций. Едва Ветровский появился на поляне, все, кто сидел, поднялись на ноги, кто стоял — просто подошли ближе, встав полукругом перед Стасом. В стороне остались только Алик, не тронувшийся с места, и Гранд, занявший пост у котелка с глинтвейном. Вперед выступил Галль. Он был очень бледен, только на щеках неестественно-яркими неровными пятнами полыхал румянец, но решительный взгляд и сжатые губы ясно давали понять серьезность его намерений. — Стас, нам нужно поговорить. Всем, — сказал Виктор. — Я знаю, — кивнул Ветровский. — Я для того и попросил вас собраться. Раньше бы он сказал «собрал вас». И эта, незначительная на первый взгляд, деталь не ускользнула от внимания гитариста. — Мы все знаем, что ты был несправедливо обвинен и осужден весной семьдесят второго года… Ну, пусть не совсем несправедливо — ты и в самом деле нарушил закон — но какое нам дело до этого закона? Мы все остались на твоей стороне, когда от тебя отвернулись другие. Мы отказались от многих друзей, мы потеряли большую часть ордена — потому что поддержали тебя. Мы потеряли очень многое, потому что выбрали тебя. Я говорю это не для того, чтобы тебя упрекнуть — ни один из нас не жалеет о том, что мы тогда выбрали. Я говорю это для того, чтобы подтвердить наше право требовать ответа сейчас. — Вам не нужно ничего подтверждать, чтобы требовать от меня ответа, — негромко, но отчетливо проговорил Стас. — Вы просто имеете на это право, безотносительно всего. Я готов ответить… Невысказанное «за все» повисло в воздухе, но почувствовали это только Алик и Гранд. — Ты бежал из корпорации в апреле две тысячи семьдесят третьего года. Сейчас — сентябрь две тысячи семьдесят пятого. Мы хотим знать, где ты был почти два с половиной года, почему не давал о себе знать — даже не сообщил, что ты жив и свободен! — и почему вернулся теперь, — отчеканил Галль. Краска полностью покинула его лицо, он был бледен, а пальцы едва заметно дрожали — но, тем не менее, он договорил до конца. Стас вновь глубоко вдохнул, задержал дыхание, выдохнул. — Вы позволите мне начать с самого начала? — спросил он, дождался кивка побледневшего, казалось, еще сильнее Виктора, и продолжил: — Человек, который помог мне бежать, дал мне больше, чем просто освобождение от четырех стен, кнута и электроошейника. Просто окажись я на свободе — я не ушел бы далеко. Меня нашли бы по чипу, или арестовали при первой же проверке документов, считав сетчатку глаза. Этот человек сделал так, что мои данные были полностью удалены со всех серверов как корпорации, так и страны. Мне нужно было лишь отлежаться несколько месяцев где-нибудь в безопасном месте, желательно — как можно дальше от цивилизации, где никого не удивило бы отсутствие чипа и каких-либо документов. За несколько дней — часть пути я проехал на попутных машинах, часть прошел пешком — мне удалось добраться до Ростова. В последней машине мне повезло — я узнал от водителя о существовании вольных деревень. Их жители обходятся без чипов, и им это разрешено законом. Они живут натуральным хозяйством, почти ничего не покупая в городе. К ним может придти любой, нуждающийся в помощи и укрытии — и если он готов работать наравне со всеми, ему позволят остаться. Это был идеальный для меня вариант. Водитель подсказал мне примерное расположение одной из таких деревень. Честно скажу, добрался я до нее буквально чудом, подхватил по дороге воспаление легких, меня едва вытащили — но вытащили. Я объяснил свою ситуацию старшему деревни — мне позволили остаться. Дали комнату в одном из домов, одежду взамен тех лохмотьев, в которые превратилась моя. Вылечили, научили жить в деревне, пахать, сеять, жать, ухаживать за скотиной и птицей, плотничать… много чему научили. И каждый день, проведенный мною в этой деревне, я не уставал поражаться людям, окружавшим меня. В них не было озлобленности, не было моральной усталости, никто не был вынужден идти на сделку с собственной совестью ради выживания, никто не отказывал в помощи другому, никто не боялся попросить помощи, нуждаясь в ней. Вся деревня жила, как одна большая и дружная семья. И в какой-то момент мне даже показалось, что я нашел орден. К сожалению, вскоре я понял, что ошибся. Они были очень хорошие, добрые, достойные уважения люди — но никто из них не стремился к большему. Они довольствовались тем, что есть еда и кров, общие праздники, близкие люди рядом, и не хотели ничего, кроме этого. Я разговаривал почти с каждым, пытался поговорить на тему ордена — меня не понимали. «Зачем?» — говорили они. «Для чего это нужно?». В конце концов я и сам начал задаваться этим вопросом. Зачем звезды, зачем вперед, зачем стремиться, для чего? Есть вкусная еда, настоящая работа, друзья, уютный дом, а еще чистейшие озера, свежий воздух, так непохожий на городской смог, не замусоренный лес без коттеджей на огороженной территории, вольные поля… неужели этого мало для счастья? И в конце концов я решил, что вполне достаточно. А еще там была девушка, в которую я влюбился. А она влюбилась в меня. Мы хотели создать семью, я даже построил дом… И мне этого было достаточно. Я вспоминал об ордене, обо всех вас — но чем дальше, тем реже. Я находил оправдания, десятки оправданий. Если я вернусь, я навлеку на вас беду, я подвергну вас опасности, меня найдут, арестуют, и вы тоже пострадаете, вы справитесь без меня, я буду только мешать… Мне не хватало духу честно признаться самому себе в том, что я струсил. Да, просто струсил! Помните, мы как-то говорили, что честных людей так мало потому, что слишком привлекательны перспективы, которые дает подлость и бесчестность? Так вот, вы себе даже не представляете, насколько привлекательна простая и честная жизнь вдали от цивилизации. Вы не представляете себе, насколько это обманчиво-легко — отказаться от мечты, отказаться от самопожертвования во имя достижения великой цели, отказаться от трудного и неблагодарного пути наверх. Простая жизнь, простые радости, простые цели — это легко и приятно. Особенно если есть с чем сравнивать. Я сравнивал! Сравнивал жизнь, которую я вел в деревне, с той жизнью, которую буду вынужден вести, если вернусь и вновь встану во главе ордена. А еще сравнивал ее с той жизнью, которую ведут миллионы людей, с презрительной жалостью называемых нами «простыми». Миллионы людей, с детства обученных принципу «каждый сам за себя», непривычных к взаимопомощи, сочувствию, бескорыстности, любви к другим. Миллионы людей, привыкших делать подлости ради карьеры, ради денег, ради положения — привыкших не потому, что они плохие, а потому, что «все так делают, почему я не могу?». Я сравнивал… И чем больше, чем дольше сравнивал — тем сильнее убеждался в том, что нашел золотую середину. Мне было страшно идти вперед, мне было страшно отказываться от многих радостей жизни ради ордена, мне было страшно вести за собой и отвечать за последствия, мне было страшно от понимания, что я никогда не смогу жить как хочется, если вернусь. Я придумывал оправдание за оправданием, но никак не мог оправдаться. Я тянул время: лето нужно было просто переждать, осень — переждать для верности, зимой слишком холодно, весной слишком много дел, чтобы бросить деревню… А потом мы с Олесей стали жить вместе, и я должен был успеть достроить дом до холодов. А потом я не мог бросить ее. А потом оправдания стали вдруг как-то не нужны. Я привык так жить, спокойствие, размеренность, уверенность в завтрашнем дне, стабильность, покой — они вросли в меня, стали неотъемлемой частью так полюбившейся мне жизни. И я перестал думать об ордене. Я уже не боялся — просто не думал. Отрекся, предал — называйте как хотите, суть от этого не изменится. Наверное, я так и прожил бы там всю жизнь, иногда вспоминая вас и, быть может, даже порой чувствуя за собой вину. Но этим летом мне пришлось поехать в город торговать. И там я очень быстро вспомнил, как живут люди, которым я когда-то хотел помочь. Все сложилось одно к одному — приезд в Озерск, увиденное мною там, оставшееся после торговли свободное время, попавшаяся на глаза вывеска виртуал-центра, несколько евро, которые я мог потратить по своему усмотрению… Сначала я посмотрел новости, и мне стало страшно. Я читал о том, как меняется мир, и твердил про себя древнейшее оправдание — «а что я могу изменить?». А потом — всплывающая реклама, ссылка на сервис, где моя почта старая… логин-пароль как-то сами вспомнились. А там — письма. Много писем. Не знаю, что меня подтолкнуло, но я зашел в чат на старом сайте… Поговорил с Аликом, договорились о встрече. Пока ехал в город — думал, много думал, сравнивал, решал, пытался понять, что должен делать — и снова струсил. Привел аргументы, доказал себе, что должен остаться в деревне. Что я там нужнее. А на самом деле я просто боялся лишиться той жизни, к которой так привык, боялся ответственности, долга… надежд, которые не мог оправдать. Но больше всего я боялся потерять стабильность и покой. Я не знаю, кто из вас в курсе нашей встречи с Аликом, наверное, все, но я все же расскажу. Потом уже не смогу. В тот момент, когда я увидел его, я чуть было не решился бросить все и вернуться. А потом Алик начал рассказывать об ордене — и я, черт, черт, я опять струсил! Отказался. Уехал. И больше не мог спать спокойно. Мне было… стыдно? Нет, не так. Я чувствовал себя предателем, я не мог смотреть в глаза тем, кто меня окружал, я стыдился собственного отражения в зеркале, я не мог спокойно взглянуть на небо. Я чувствовал себя тем, кем и являлся — предателем, эгоистом, подлецом, последним выродком, куда более мерзким, чем даже тот парень, который на моих глазах избивал женщину за то, что она посмела сделать ему замечание, избивал ради развлечения. Он вырос в среде, в которой почти невозможно стать человеком, а я предал все и всех по собственной воле. И… я не выдержал. Я вернулся. Я не знаю, можете ли вы меня простить, сможете ли снова мне поверить, дать мне второй шанс. Вы имеете полное право отвернуться от меня, плюнуть мне в лицо — я предал вас и все то, во что мы вместе верили. Но я… Я прошу у вас всех прощения. У всех вместе и у каждого по отдельности. Я ни на что не надеюсь, я просто прошу — простите меня, если можете. Мелкий дождь, начавшийся на середине монолога Стаса, смывал не замечаемые им слезы со щек, но не мог помочь заново научиться дышать. Ветер ласково шевелил еще не полностью промокшие волосы, но не мог заставить заново биться остановившееся, казалось, сердце. Не решаясь поднять взгляда, не решаясь прочитать заслуженный приговор, юноша опустился на колени. Он уже не помнил, зачем все это говорил — чувство вины жгло его душу, ненависть и презрение к самому себе достигли того уровня, когда почти не имеет значение, простят ли тебя те, кому ты причинил зло, потому что сам себя ты простить уже не можешь. Чья-то рука легла на плечо, сильные пальцы сгребли куртку, потянули вверх, вынуждая встать. Горячее ткнулось в руку, Стас машинально подставил ладони под обжигающий металл, и невероятным усилием заставил себя поднять взгляд. Они все смотрели на него, бледные, ошарашенные, не понимающие, боящиеся — они хотели всего лишь узнать, почему, они не были готовы услышать исповедь того, кого считали, несмотря ни на что, своим Командором. Саша плакала, не скрывая слез. А Стас стоял, сжимая чашу с глинтвейном, смотрел на них, и не мог понять, почему они не разворачиваются и не уходят, заслуженно оставляя его наедине с собственной совестью. Резкая боль в щиколотке вывела его из этого отрешенно-обреченного состояния. — Вчера я решил, что если вы не простите меня, если отречетесь, я покончу с собой, — сказал он, и сам удивился тому, как горячо и решительно звучал его охрипший от долгого монолога голос. — Сегодня я понимаю, что это было бы трусливо с моей стороны. Но я не хочу больше трусить. Я не прошу вас больше ни о чем, кроме искренности. Если вы не можете простить меня за все то, что я натворил, не надо делать вид. Пожалуйста. И еще одно… Вне зависимости от того, что вы решите, знайте: я безмерно благодарен каждому из вас за то, что было, я в долгу перед вами, и… я люблю вас всех. Он поднял посеребренную чашу, украшенную тонким узором по краям, отпил несколько глотков, отнял медленно остывающий металл от губ. Вновь обвел всех взглядом. Они стояли на тех же местах, все такие же шокированные, и ни один не попытался сделать шаг вперед. «Что ж, это справедливо» — с горечью сказал себе Стас. Чаша в его руках медленно наклонялась, еще несколько секунд — и алый пряный глинтвейн потечет на землю… Чужие ладони легли поверх его пальцев. Он поднял голову, и поймал страдающий взгляд Виктора. — Я прощаю тебя, — хрипло проговорил тот. Пригубил вино, вернул чашу. — И ты, если можешь, прости меня за то, что я сомневался. — Я прощаю тебя… — губы стали непослушными, Стас снова почти ничего не видел — но не считал нужным скрывать свои чувства сейчас. Следующей оказалась Инга. — Стас, прости… я такая дура… — Ты прощаешь меня? — спросил он в ответ, пригубил. — Конечно… Саша… Азамат… Еще Саша…Женька… Алик просто молча улыбнулся и отпил глоток. Последним был Гранд. Взял чашу, посмотрел на нее. Ухмыльнулся, прижал к губам чашу, и не отрывался, пока глинтвейна не остался буквально один глоток. — Я тебя еще четыре дня назад по морде простил, — заявил он, возвращая остатки. Стас автоматически допил. Потом выронил чашу, сел на землю, и истерически расхохотался. Теперь. Все. Будет. Хорошо.