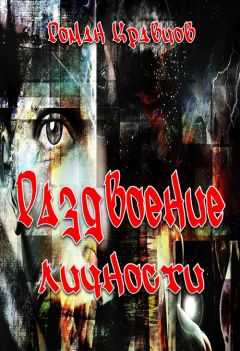Андрей Гребенщиков - Квартира № 41
Всё дело в свете. Он есть в каждом. Дети буквально излучают его — маленькие звездочки. Со временем многие тускнеют, некоторым удается выкорчевать из себя свет с корнем, под самое основание. Это легко. Тяжело сохранить чистоту и яркость хрупкого огня…
Такие, как ты, Сережа, способны разжечь целый костер. Боль, утрата, ощущение несправедливости и обреченности, помноженные на яростно сильный, выжигающий свет… лучших дров для настоящего пожарища не бывает. И пожар этот способен пожрать самого себя и не пощадить других. Ты пылаешь и в адском мареве не видишь ничего. Истинный огонь должен освещать. Должен уничтожать тьму…
Боюсь, что твое пламя сжигает любимого Настей Корнета. И порождает тьму».
На станции установилась тишина. Тяжелая, обвиняющая. Гнетущая.
— Ты ведь не Сортировщик, правда? Судья, да? Обвинитель? И Палач? — Ремешов говорил спокойно и уверенно. Без звенящих эмоций и дрожи в голосе.
«Ты забыл про Дознавателя… Против тебя выдвинуто очень серьезное обвинение. Выдвинуто твоими же товарищами. Живыми и мертвыми. Нам предстоит узнать правду».
Ремешов поднял голову и сказал, обращаясь куда-то в бетонную высь:
— Знаешь, Судья, мне не страшно. Я понимаю, что должно — но не страшно. Честно. Ни на грамм. Может ты и прав на счет огня… душа выжжена, я не чувствую… её нет, только пепел. И страх выжжен. И все желания. Я даже умереть больше не хочу. Молил о смерти, днями и ночами молил, каждую минуту… А теперь всё равно. Только скажи — когда убьешь меня — я смогу увидеть своих… детей? На один миг… Я прошу… Пойду хоть на Бажовскую, хоть к Калиновке, зубами прогрызу тоннели… Один миг, всего одно мгновение…
* * *Люди. Хрупкие создания — слабая физика, тонкая, слишком тонкая психика. Медуза на просвет — безвольное тело, прозрачная душа. Создатель, разве тебе не жалко нас? Бросить и растоптать…
Мы всегда были такими… беспокойными, ищущими, злыми, как дети, любящими, как старики… Мы не взрослеем, да? Идут тысячи и тысячи лет, а человек не меняется. Камень сменяется топором, топор автоматом, автомат — ядерной боеголовкой. Заемное могущество — ведь так? Ты разочаровался? Наделил нас любовью, вложил добро и свет, а на выходе получил безумную обезьяну с томагавком? Это Тебя бесит?! Дитя получилось не очень… Урод, без конца требующий внимания и жалости. Наши вечные мольбы, напитанные низменными желаниями и плохо скрываемой скверной, иссушили Твой слух, бесконечное насилие — высушило слезы и ранило глаза? Ведь так? Твой рот закрыт презрительной гримасой, а взгляд стыдливо отведен в сторону. Твоя длань больше не коснется наших душ, а благодать навсегда покинула черствые сердца?
Да только сердца-то не черствые… Страсти, огонь, любовь. Пороки и небесный трепет, грязь и святость, жестокость и безграничное — до самопожертвования — милосердие. И вера… Ты ведь чувствуешь её до сих пор?
Я никогда не верил в Тебя. Даже не то что не верил, не думал о Тебе. Тебя не было в моей жизни. Жизнь была, а Ты — нет. Стоило миру перевернуться, а жизни вытечь по капле, как я узрел Тебя… уходящего, покидающего… И верить стало не в кого.
Тебя не было в моей жизни, нет Тебя и в смерти. Почему я должен отвечать измученному, израненному, лишенному всего человеку на вопросы, адресованные Тебе? Почему я должен судить его — за Тебя? Я снова хочу быть тем несчастным, провалившимся абитуриентом, для которого самым страшным испытанием были вступительные экзамены. Ты кинул на мои плечи страшную ношу! За что я проклят, за что так жестоко наказан?
И всегда молчание. Миллионы вопросов и один ответ на всё. Тишина. Стена безмолвия. Есть ли что-то за ней? Ответ я знаю.
«Подсудимый Ремешов, я начинаю Суд. Мне нужно проникнуть в твое сознание и память. Будет проще и безболезненней, если обойдемся без сопротивления».
* * *Я погрузился в море — обжигающе холодное, безбрежное. Вода казалось чистой и прозрачной — вот первые воспоминания — смех родителей, беззаботное детство, школа, детская влюбленность, институт… Ядерное марево — ослепительное, выжигающее глаза — я тоже помню тебя — небо рушится на землю… Вода темнеет — отчаяние и невысказанный вопрос…
Круговороты, водопады, пороги и уступы… адская гонка в дьявольской темноте. Вой сирен, мерцание гаснущего света. Падение в бездонную пропасть — нескончаемое, безнадежное. Резкая, нежданная вспышка — яркая, подобная Солнцу, — теплые, обволакивающие лучи и… море нежности. Счастье без берегов и дна. Чистое, восторженное, всепроникающее чувство, которому нет названия… мне не познать — не успел, и уже не узнаю никогда… Прозреть на один миг и ослепнуть, унеся в своей памяти свет. Невыносимая пытка. Счастье взаймы — чужое, в замочную скважину. Я закричал — от боли и понимания! Кричал и Корнет — безмолвно; раздирая ногтями маленькую гранитную плиту с любимым именем, разрывая собственную душу, вывернутую на изнанку.
Пустыня, выжженное, высохшее море. Долина боли, обнаженное небо, плачущее без слез. Серый мир, выпитый до капли. И только безумный ветер, завывая пустотой, бессвязно шепчет о чем-то ушедшем. Молитва без адресата, проклятье без…
Песчаная буря кружит в сумасшедшем танце, повинуясь ритму неведомой мелодии. Мир, уходящий во мрак и хаос. Юдоль смерти, обитель кошмара.
Мне остается сделать шаг. Я вижу три фигуры, двое мужчин и одна дородная женщина. Через несколько секунд разыграется странная трагедия и придет смерть. Однако они безмятежны, ибо неведома им страшная участь. Останавливаюсь, воспоминание немедленно замирает, покрываясь черно-белым дрожащим туманом. Что дальше? Бессмысленная бойня, порожденная больным разумом; нападение неведомых тварей; наведенный морок, искажающий восприятие?
Мне не сделать последний шаг… не хочу знать. Правда может вознести Корнета, а может приговорить. Как бы то ни было, она лишит метро своего героя — неважно положительного или отрицательного. Я не позволю в нашем тусклом мире затушить ярко пылающий факел… Его палящий огонь чертовски опасен и может спалить дотла, но после атомной преисподнии глупо боятся ожогов…
Корнет открыл глаза, усиленно заморгал, возвращаясь в сознание. Оглянулся, приводя мысли в порядок и, с трудом разлепив ссохшиеся губы, тихо спросил:
— Суд окончен?
Хотелось кивнуть — неопределенно, уходя от ответа. Но я не мог кивнуть, а Корнет — разглядеть этот жест.
«Суда не будет».
— Что-то случилось?
«Я не могу тебя судить»
— Не понимаю.
«У тебя есть цель, есть смысл… и они важнее Суда и Приговора».
Ремешов молчал. И ждал.
«Сейчас ты уйдешь. Тебе нужно идти».
— Я могу вернуться на Динамо?
«Кое-что изменилось, Сережа… Ты сам все почувствуешь и поймешь. Тебя ждет собственный путь».
Я смотрел в спину уходящему человеку — человеку, которого отказался судить. Такое случалось и раньше. Будет и в грядущем… я надеюсь… нет, теперь знаю.
Этот человек очень нужен двум малышам. И когда-нибудь они будут вместе — рано повзрослевший отец и его дети — чудесная девочка и не по годам серьезный сын. Вот только годы больше не имеют значения…
Ты пойдешь дорогой тщетных поисков, тебе не найти желаемого в перегонах, станциях и тоннелях метро… Однако щедрой душой ты отметишь свой путь… Беззащитным нужно спасение, безутешным — надежда, мертвым — покой, живым… живым нужно ЗАВТРА.
Брошенному и покинутому миру не выжить без любящей души… Мы — сироты, забытые на пыльном полустанке, ненужные дети на перекрестке чужих судеб. О, ангелы, возносим вам свои молитвы, взываем о защите и вере…
Спаси и сохрани.
* * *Кузьмич говорил глухо, низко опустив голову:
«… в пятидесяти шагах от ворот. Так и сидел на лестнице, с пустым автоматом и поднятой маской. И лицо… спокойное, спокойное. Я сначала подумал — живой. Закричал, обрадовался…»
Сталкер на секунду закрыл лицо огромной ладонью. Его руки и плечи била мелкая дрожь.
«Он даже до поверхности дойти не успел… не смог. Там кровь кругом… Долго отстреливался, пока патроны оставались. А потом…»
Кузьмич махнул рукой и отвернулся.
Комендант содрогнулся. Всем телом. Сердце взвыло запредельными оборотами, в глазах потемнело. «Мы еще от ворот отойти не успели, а он… он уже умирал. Что же мы с тобой, Гришка, наделали?»
Вопрос не был задан вслух. А будь задан, отец Павел его бы не услышал. Священник, отстранившись от мира и целиком погрузившись в себя, о чем-то разговаривал с Богом.
Эпилог
Запись № 411:
Любимая моя летопись, прости старого ленивого дурака — ни единой записульки за столько месяцев кряду. Но ты, мать честная, не поверишь, за всю зиму на станции ни одной серьезной оказии. По мелочи было конечно — зверюги с поверхности перли, кое-кого из дозорных подранили даж, дед Василич отмучался, Ирина Михайловна в свои восемьдесят шесть годков шибко хворать стала, видать тож пред светлыми очами скоро предстанет, меня ревматизм гнет — спасу никакого.