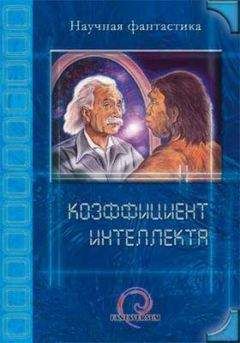Евгения Мелемина - Библия улиток
– Два ведра.
– Двадцать центов, значит…
Я посадил собачку на его колени и кинулся в душевую, захлопнув за собой старую рассохшуюся дверь.
Мне повезло, я проснулся поздно, поэтому миновал очередь.
Пока я раздевался, Денни втащил внутрь ведра, заполненные мутноватой, но холодной водой. Счастье.
Уходя, он кинул на меня короткий взгляд, и я знал, что это значит: взгляд мне-все-равно-что-за-штука-у-тебя-на-спине.
В зеркале с глубокой трещиной посередине и облепленном мыльными лишаями, я себя увидеть не смог – что-то мутное и с глазами маячило посередине и все.
Не важно, на самом деле. Главное, биокороб в порядке, а его я ощущал изнутри себя, без дополнительных приспособлений.
Ведра пришлось втаскивать наверх самостоятельно, цеплять на чугунный крюк и, стоя внизу на мокром кафеле, дергать за веревку, еле дыша от холода и надеясь, что вместе с водой не прилетит и сама тара.
Руки у меня посинели, ребра вылезли дугой, но болезненное кольцо, опоясывающее лоб, распалось, и перестало стучать в висках.
На стирку воды не хватило, хотя я и прихватил с собой обмылок. Что ж, придется поискать воду еще где-нибудь.
Волосы я пригладил не глядя, натянул пропахшую сигаретным дымом одежду и вышел.
Денни не обратил на меня никакого внимания. Он читал брошюру Лиги Законностей, выпятив губу.
Эти брошюры порхали по городу как своевольные бабочки. На них большими буквами, иногда красивым почерком, Лига обещала всем униженным покровительство, кров, сад, мир и гармонию.
Нельзя сказать, чтобы они были совсем уж бесполезны: моя квартирка в одну комнатку принадлежала Лиге, и деньги я получал опять-таки от Лиги, но меня удручала необходимость каждый месяц изображать униженного и оскорбленного, пребывающего в аду, и ныне спасенного от всего подряд с помощью Лиги и только Лиги. По правде говоря, без нее я раньше тоже не особо пропадал.
Я неприхотлив и мог бы шляться по миру и дальше, как привык, если бы в этом городке популяция последних детей не оказалась равна нулю.
Шансы наткнуться на них в поездах и на меридианах очень велики, все мы перекати-поле, все умеем выживать и не тяготимся одиночеством, и мне так осточертели эти встречи, что захотелось укрыться в городе.
Нет ничего паршивее встречи двух последних детей.
Сначала мы глубокомысленно молчим, потому что не знаем, как мир повлиял на нас и как мы повлияли на мир, а последнее знать нужно, потому что есть экземпляры, которые считают, что степень их важности напрямую зависит от количества высаженных ими елок и кустов. Конечно же, они всегда оказываются теми, кто «последним покинул место боя» и, уезжая, унес с собой в сердце камень горечи.
Есть другая крайность – балбесы, гордящиеся побегом. Они утверждают, что первыми догадались, что мир прогнил, их используют, и освободились от ярма, пока остальные идиоты продолжали вкалывать.
Вот из-за этих мнений мы и стараемся молчать. Не хочется портить руганью то, что было прежде. Все мы смешны со своими прошлыми надеждами и наивной верой, но смеяться над этим… не лучший выбор. Проще забыть.
Иногда нам удается поболтать на отвлеченные темы, но никогда мне не удавалось ни с кем выпить, потому что последние дети все еще трясутся за содержимое своих биокоробов, и в этом смысле я могу гордиться собой – я действительно отпустил прошлое и действительно не собираюсь больше лезть в «сайлента», раз позволяю себе пить.
Они – все еще нет. Наверное, они все еще ждут капитана, который примчится на Небе-1 обратно на орбиту и снова припашет всех на разработку и расширение Края, строго-настрого запретив его покидать…
Прощаемся мы тоже очень натянуто и глупо, мол, счастливо, до встречи, и обязательно в конце кто-нибудь скажет мне: «Да. Чуть не забыл. Слышал такую сплетенку, что…»
И этого я боюсь больше всего. Терпеть не могу «сплетенку». Я сам все знаю. Все – сам. Надо написать в Лигу Законностей документ о рассмотрении введения запрета на случайные и намеренные встречи последних детей.
Я шлялся с этими мыслями по городу и пришел на вокзал. Точнее, на единственную платформу, названную станцией Освобождения. Ничего особенного – платформа как платформа, таких тысячи. Синенькие круглые козырьки, битый асфальт. Пустующая будка, заколоченная крест-накрест. На самом деле заколочена она только для виду и дверь спокойно открывается, но приспособлена будка под такие дела, что лучше эту дверь не трогать во избежание моральных и прочих травм.
На станции сохранились часы, похожие на механические. Мне всегда хотелось, чтобы у них были стрелки, застывшие на каких-нибудь цифрах, и тогда я мог бы представлять себе тот миг и секунду, когда они остановились навсегда, но стрелок не было. Пластик защищал циферблат, а стрелок не было. То ли сперли, то ли… я даже не знаю.
Под часами стояла лавочка, на которой я любил сидеть и разглядывать прибывающие поезда.
Их синие тупые морды меня умиляли – я вспоминал свою молодость и бесконечный трансфер на этих вечных старательных трудягах, таскающих свои вагоны по пустой земле.
Нет лучше способа передвижения, чем на этих поездах, если, конечно, умеешь прыгать на них с крыш тоннелей и не проваливаться на рельсы.
В вагонах работают обогреватели – тонкие пластинки, на севере ночами наливающиеся малиновым светом. Кое-где сохранились даже видеозалы и барные стойки, за которыми печально пустуют хрустальные птицы, когда-то заполненные вином и разноцветными настойками.
В купе забыты кружечки с высохшими чайными пакетиками, открытки с видами зимнего леса, волосатые клетчатые шарфы, кошелечки с вложенными билетами, тюбики, зеркальца и полосатые чемоданы с обязательным полотенцем внутри.
Я старался ничего не трогать. Я не люблю нарушать прошлое – оно вполне может жить параллельно с нами, думается мне, и совершенно необязательно тащить к себе домой все, что видишь целым и не перемазанным в дерьме.
Поезда приятно напоминают мне о том, что прошлое катается по планете в целости и сохранности, потому что идиотов, прыгающих на крыши, не так уже много, и мало кому из них нужны кружечки и шарфики.
Голубоватые рельсы задрожали. Тощая былинка рассыпалась в прах под стокилограммовым колесом, поезд, качаясь, приближался к платформе и словно раздумывал, не остановиться ли здесь и не выпить ли чаю в привокзальном буфете. Снижение скорости было обманчивым, они никогда не тормозили на станциях, не раскрывали дверей, и слезать с них приходилось по лесенке, прикрепленной между вагонами.
В выпуклых стеклах поплыли мои глаза и лица – десяток раз они мелькнули прямо передо мной, и только на одиннадцатый сменились чужим лицом и чужими глазами.
Сначала на платформу упал чемодан, тот самый, в желтую полоску и с полотенцем. От чемодана тут же отскочило колесико и отчаянно помчалось ко мне, словно пытаясь спастись. Я колесико подхватил. Оно было шершавое и теплое.
Поезд дернулся, и показалось, что рука и нога, торчащие между вагонами, сейчас сомнутся в кашу, и мне придется искать воду для новой помывки – знаю я, как оно брызгает…
Выпуклые стекла поплыли прочь. На одном из них сидел паук-трещина.
Состав с грохотом унесся прочь, электронное табло над тоннелем в ужасе засуетилось и высветило что-то вроде «КАШ… 1127 в 13:40».
– Я рад! – проорал кто-то, пытаясь заглушить гул.
Я повернулся.
Ко мне бежал длинный тощий тип в черной повязке на все глаза. За ним скакал чемодан.
– Меня никогда раньше не встречали! – восхищенно сказал он, когда все утихло. – Мистер Ббург говорил, что нашел помощника, но чтобы все было так хорошо устроено… – он закрутил головой, словно не веря своим глазам.
Я бы тоже не верил его глазам – насколько можно было судить, повязка на них была совершенно непроницаемой, а сверху еще и придавлена тонким пластиковым забралом.
– Сантана, – сказал он и безошибочно нашел мою руку, чтобы пожать ее. – Сколько стоит комната в этом городишке? Полдоллара в день хватит?
– Нет, конечно, ну что ты… за такую цену я могу поселить тебя…. Разве что у меня.
Святые лимоны, не дайте этому кошельку заселиться в местечко вроде Этажей Независимости, где за двадцать центов в день можно получить ведро личной горячей воды, обед из двух блюд и сухую простынь. Несмотря на эти прелести, в Этажах то и дело кто-то вешается, но человек с нормальными нервами не будет обращать на это внимания.
– Спать придется на полу, – сообщил я, хватая его чемодан, – но другой квартиры ты не найдешь. Разве что подвал возле крысиной чебуречной. И то придется доплатить, хозяин там редкостная шваль.
– Отлично-отлично, – рассеянно сказал Сантана, крутя головой в разные стороны, словно сканируя пространство вокруг себя. – А обед?
– Пойдем и купим.
Я потащил чемодан прочь, но он прыгал на каждой кочке, так что пришлось остановиться и приладить назад сбежавшее колесико.