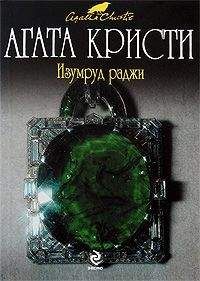Олег Верещагин - Там, где мы служили...
Дик, всё это время что-то ворошивший носком сапога, поднял голову и спокойно сказал:
— Ушли. Его ушли, Джек.
И толкнул сапогом расчищенное им закопчённое, помутневшее металлическое зеркало.
7
СЧЁТ
Я иду на Восток,
обнажив крест раскинутых рук,
а в глазах моих Запад,
фиорды и сумрачный берег.
1
— Джек, ну что ты лежишь? — Дик наклонился, упираясь рукой в край кровати. — Пошли, там здорово!
Снаружи в самом деле доносились звуки музыки, смех и обрывки весёлой многоголосой болтовни. Но Джек, лёжа на кровати с закинутыми под голову руками, отрицательно поморщился и промолчал.
— Нельзя себя так мучить! — резко сказал Дик. — Ну ушёл он! Но досталось-то ему здорово, не скоро оправится…
— Мне нужна его смерть, — равнодушно ответил Джек. Но равнодушие тут же исчезло во внезапной вспышке бешенства, юноша сел и рывком притянул друга ближе. — Я не понимаю, как он выворачивается из наших ловушек! Или он действительно не человек, а какая-то порождённая Безвременьем тварь?! Дик, я начинаю сходить с ума!
— И сойдёшь, дурень, если не отвлечёшься, — Дик, с жалостью глядя на англичанина, взял его за руки. — Пошли, нам что, всем отделением тебя упрашивать? Потанцуешь, послушаешь музыку…
Джек опрокинулся обратно в кровать — она ухнула.
— Нет, — вяло отозвался он. — Не пойду. Ты иди, а я посплю, наверное…
— Ну, как хочешь, — Дик покачал головой. — Пива принести?
— Принеси…
Новозеландец вышел. Джек вздохнул — так, словно ему было трудно проталкивать воздух в горло. Перевернулся на живот. Ему хотелось не спать и не пива, а просто-напросто плакать.
Однако, в блиндаже было темно, спокойно, почти тихо, и Джек уже в самом деле почти уснул, даже закружилась перед глазами какая-то предсонная белиберда — мчащиеся кони, падающее дерево… Но заснуть до конца ему не дали — простучали шаги, и Джек, вздёрнувшись, различил Жозефа.
— Разбудил? — виновато спросил валлон. — Извини…
— Да я не спал, — почти правду ответил Джек, опираясь на локоть. — Ты чего?
— да ну… — Жозеф поморщился, сел, начал сдирать сапоги. Так и не пояснил, что к чему — в блиндаж ввалились Андрей и Эрих. Они опять спорили о войне — горячо, но беззлобно. Не прошло и пяти минут, как собрались все — последним припёрся Дик, притащивший упаковку пива.
— Так, — он бухнул её на стол, — вот все и на месте.
— Хитрец ты, Дик, — сказал Джек, чувствуя, что настроение понемногу улучшается. Новозеландец отдал честь:
— Если человек не хочет идти на праздник, то праздник приходит к ему… — двумя движениями ножа он развалил упаковку и начал раскидывать в руки баночки «гинесса».
— Эндрю, а как там ансамбль без тебя? — поинтересовался Джек, открывая свою. Русский махнул рукой:
— Споют, куда они денутся. У меня уже уши устали.
— У слушателей тоже… — задумчиво сказал Эрих.
— Им медведь на ухо наступил, — парировал Андрей. — Нарежьте кто-нибудь колбасу.
— И консервы откройте, — напомнил Иоганн. — Там сардины есть.
— Эй, Андрюшка здесь?! — крикнул кто-то, всовывая в блиндаж голову. — Народ его требует!
— Он пьяный в дупель, — хладнокровно ответил Жозеф.
— Во! — удивился посетитель. — Он же только что…
— Да ему хватит и пробку понюхать.
Посланец общественности исчез. Поверил, нет — неизвестно.
— А нам-то споёшь? — поинтересовался Джек, закусывая пиво маслиной. Андрей задумался. Потом потрогал струны гитары и сказал:
— Я… не спою. Я просто стихи почитаю, хорошо?
Видимо, ничьё особо согласие ему не было нужно, потому что он, по-прежнему держа в руках гитару, заговорил негромко:
— В Индийском океане тишь,
Глядит он кротостью самой;
Волны нигде не различишь,
Кроме дорожки за кормой.
Корабль несётся, дня уж нет,
Пробили склянки — отдыхай…
Чернея на закатный свет,
Индус поёт: «Хам декхта хай».
И восхищаться, и дышать,
И жить бескрайностъю дорог —
Без толку! — мог бы я сказать.
Но бросить бы уже не смог!
Слежу ли за игрой старшин,
Ловлю ли женский смех и гам,
Гляжу ли, как офицера
На шканцах провожают дам,
Я думаю про что ушло,
Взгляд утопивши в синей мгле,
И вот я словно бы один
На опустевшем корабле.
Про что ушло, что видел я
В казарме, в лагерях, в бою,
Рассказываю сам себе
И правды сам не узнаю;
Так странно, слишком странно все…
Что ж, это нынче позади.
Да, было всякое со мной,
Но — больше в будущем, поди.
Да, на заметку я попал,
Я нарушал закон полка,
И сам себя со стороны
Я видел в роли дурака —
Познанья цену я платил
И не был ею возмущён,
А прохлаждался на «губе»,
Мироустройством восхищён.
На траверзе возник дымок,
И встал над морем там, вдали,
Горбучий Аден, точно печь,
Которую уж век не жгли.
Проплыл я мимо этих скал
Шесть лет назад — теперь домой
Плыву, солдат, отбывший срок,
С шестью годами за спиной.
Невеста плакала: «Вернись!»
И мать вздыхала тяжело.
Они мне не писали — знать,
Ушли: ушли, как все ушло.
Как все ушло, что разглядел,
Открыл, узнал и встретил я.
Как высказать, что на душе?
И я пою. Вот песнь моя:
И восхищаться, и дышать,
И жить бескрайностъю дорог —
Без толку! — мог бы я сказать.
Но бросить бы уже не смог![11]
Хорошо читал Андрей. Сильно. И, когда он закончил, Эрих вздохнул:
— Да… Это не наши песенки… это Поэзия. Напишут ли про нас такое…
— Напишут, — твёрдо сказал Андрей.
— Кто? — спросил Жозеф. — Кто напишет?
— Не знаю, — пожал плечами Андрей. — Может, служит кто-нибудь среди нас… или в армии в той или в другой Империи… Он и напишет. А через годы люди будут говорить: «Вот — Поэзия!»
— Кому это нужно? — просил неожиданно Густав. На него разом обернулись все:
— Как кому?! Нам! — возмущённо сказала Елена.
— А, — отмахнулся поляк.
— Кстати, — сказал Иоганн, — завтра наше отделение перебрасывают на передок. Нужно провести разведку дороги для пехоты.
— Хорошая новость! — под общий одобрительный шумок широко улыбнулся Андрей.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ. НАКАНУНЕ АТАКИ.…Я шёл на ночные выстрелы
в безжалостное пространство,
Туда, где бродили духи
и наши гибли в горах.
Мы спали на автоматах,
засунутых под матрасы.
Лежали подсумки набитые
у каждого в головах.
Птица срывалась с воплем —
ей человек приснился.
Одни петухи по-русски
крыли во весь предел.
Свалилась одна палатка,
один сучок надломился,
Одна звезда пролетела,
ещё один поседел…
Дрожащая тварь — цикада —
трещит под ногой, не смолкая,
О прахе забытых предков,
и светит луна в окоп…
Мы только любили землю,
друг друга не понимая,
И нас целовали пули,
как мать на прощанье — в лоб.
2
Чёрт его знает… Всё было спокойно, и подбитый танк бандосов, уныло опустивший хобот, вполне вписывался в пейзаж. Андрей провожал взглядом трупы врагов, лежащие вдоль дороги — никем не убранные, они уже начали неохотно разлагаться, и сырой прохладный воздух был пропитан тяжёлым сладким запахом. Это были результаты не боя, а воздушной штурмовки «хенгистов».
И всё-таки Андрею не нравилась эта дорога. Вот не нравилась — и всё тут. Он был готов поклясться, что за ними следят, и не меньше пяти минут осматривал её вдоль и поперёк, лёжа в кустах. Дозорный не имеет права быть мнительным… и быть неосторожным тоже не имеет права.
Тяжёлая жизнь.
Мышиным попискиваньем он привлёк внимание Густава, лежавшего в нескольких метрах, и указал на дорогу. Поляк медленно кивнул, поднялся и… пошёл вперёд в рост.
— Спятил! — прошептал Андрей, хватаясь за пулемёт. Но в Густава никто не стрелял, никто на него не бросался. Поляк равнодушно перешагнул через труп, прыгнул через совранный танковый каток — и скрылся за подбитой машиной. Андрей инстинктивно напрягся… но услышал только голос Густава — весёлый (!) и громкий (!!!):