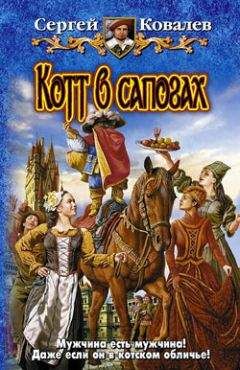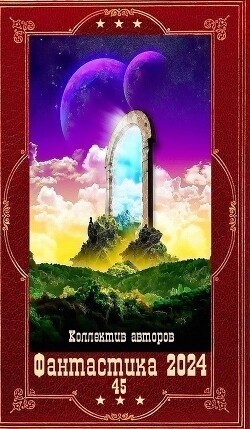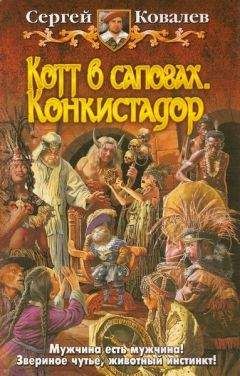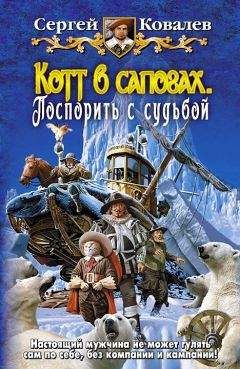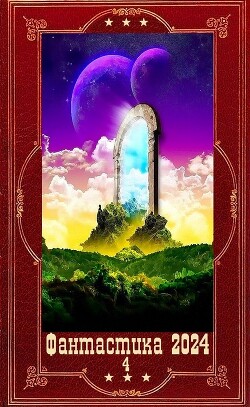"Фантастика 2024-46". Компиляция. Книги 1-18 (СИ) - Ковалев Сергей Юрьевич
Но от путешествия в Деспотат ему отвертеться не удалось. Перец сказал, что историк должен находиться в гуще событий. Чтобы написать честную картину падения Владиперского Деспотата, он просто обязан присутствовать при столь знаменательном событии лично.
– Смотри и записывай, – велел Перец. – Конец Деспотата будет величественным зрелищем. Земля содрогнется.
Тытырин подобострастно согласился. А что ему еще оставалось?
И вот мы уже два дня брели по тундре. Ради предосторожности, чтобы не спугнуть потенциального врага, Перец высадил нас чуть ли не в сотне километров, и мы пробирались между ручьев, луж и озер. Мне путешествие нравилось, я уже говорил, а Тытырину сначала нет. Но на второй день в жизни славянского готика произошло нечто необыкновенное. Борода, о которой я говорил выше.
В общем-то, ну, насколько я мог судить, прозайка Тытырин был человеком активно счастливым, за исключением одной детали. Несчастье Тытырина заключалось в следующем – каждый истинный приверженец славянской готики должен был носить бороду, а борода у Тытырина не росла, и все тут. Чего он только не делал – расчесывал подбородок до крови особой щеткой для тримминга ризеншнауцеров, втирал скипидар и жидкости для ращения волос, даже прижигал подбородок головней. Старался, одним словом. Но тщетно.
И вот на второй день нашего путешествия к Деспотату ни с того ни с сего у сочинителя стала прорезываться щетина. Прозаик ликовал, растительность массировал и вообще всячески лелеял, то и дело смотрелся в разные гладкие поверхности – в ручьи, в лужи, а также в специально вылизанную ложку. Борода на его лице смотрелась глупо, но Тытырин этого не замечал. Проращение волос он воспринял как добрый знак, пал на колени и вознес возблагодарение то ли Роду, то ли Свентовиту – короче, Перуну какому-то. Сварожичу.
– Божиче даждь ме силу сильную, волю вольную, десницу твердую, искоростень лютый…
Ну и все в том же славяно-готическом духе. «Искоростень лютый» мне опять же понравился. Я даже испугался немного истовости молитвы – а вдруг у славяноготов вся сила заключается в бороде? И если принялась расти борода, начнет увеличиваться и сила. Кто знает, как у них устроено. Молится-молится, потом какая-нибудь молния как ударит с неба, как загудит все, как побежит кто-нибудь…
Впрочем, боги к стенаниям Тытырина остались глухи – молния не ударила, никто не побежал. Видно, плохо он молился. Имел, правда, место один случай, но при всем моем желании к промыслу богов отнести я его не мог: очередной песец – существо бессмысленное и коварное – зачем-то выскочило из кустов, укусил Тытырина за ногу и скрылся. Вряд ли это был знак, но сам прозайка сильно задумался.
В тот вечер мы не дошли до Деспотата, хотя я его и почуял – ветер принес запах гари, навоза и печеного хлеба. Тытырин, впрочем, ничего не заметил. Он сожрал две коробки сардин, закусил лепешкой, запил чаем и, пристроив на камне свой писательский агрегат, накинулся на него с писательской же агрессией.
Я сварил себе суп из копченой колбасы и лука, выхлебал полкотелка, а полкотелка оставил на утро. Потом решил потренироваться.
Тренировка была проста. Я выхватывал и прятал обратно револьверы. Упражнение обычое, но проделывать его при больной руке было нелегко, скорость невысокая. Однако и такой мне хватило бы. Скорость меня не напрягала, смущало то, что рука никак не заживала. И выглядела как один большой ожог, только не заросший. И не проходящий. Никак не проходящий. Утешало одно – если бы у меня было что-то заразное и смертельно опасное, краснота поползла бы выше. Но к локтю краснота не распространялась, сосредоточившись на ладони. И боль…
Ладно. Я тренировался.
Выхватывал-прятал, выхватывал-прятал, выхватывал-прятал, а сам все ходил кругами и поглядывал на Тытырина и его работу. Прочитать по-хорошему не получалось, и в конце концов мне даже пришлось уронить револьвер. И когда я наклонился, чтобы его поднять, то успел ознакомиться с текстом посредством скорочтения.
«…величественная Супротив-Гора, будто вывалившаяся из котомки самого Симоргла-Держателя в те громовые дни, когда вершил он свое радомыслие. Почувствовал в сердце моем любостай, и кануны, и слезы на глаза навернулись чистоводные, и пролил я их.
Уже два дня шеломили мы по непроходимой здре, и на день второй, когда Усень спрятался в кущи, яко птица-снегирь в просиньце, был мне знак. Явилось чудище мне, вида красного и бисятного, и хотело пожрать мя.
А спутник мой, тля жалкая, убоялся чудища шерстнатого и пал на колени и стал молить прощения. И было это так:
– Не надо! Не убивайте меня! Я хочу жить! Я еще много в жизни не попробовал!
И далее так, и далее так. И таить чего, пала на душу мою жля и кручина, и восхотел я тождь криведного, как спутник мой, не слышавший Лады, трус и муравель, тля жалкая…»
Так, фантазируем помаленьку. Значит, я жалкая тля и муравель… Тьфу, название-то какое паскудное! Паскудней и не придумать. Ну, хорошо. Я решил сразу не наказывать этого гада. Потом. При случае. При обязательном случае.
Тытырин злобно на меня оглянулся, я поднял револьвер и продолжил тренировку. Так мы и жили до вечера – я работал с револьверами, а Тытырин стучал, высунув язык чуть ли не до пупа. Потом стемнело, и мы легли спать.
Спать, спать.
Ничего, наш Снорри Эшенбах мне ответит. За муравля он ответит. Гадкое какое слово – муравель…
Глава 13
Бычки в томате
Не успел проснуться, как выстрелил.
Хорошее качество – стрелять, еще не успев проснуться. Следую заветам Варгаса. Хотя Варгас рекомендовал тренироваться каждый день, а у меня на каждый моральных сил не хватает. И патронов не напасешься. И вообще.
Стрелял с левой руки, из Берты, в ней как раз лежали патроны с пластиком. Гуманизм – лучшее из того, что придумало человечество. Я сам гуманист…
Тьфу, чего ко мне этот гуманизм так привязался? Стрельба и гуманизм несовместимы…
Попал – я никогда не промахиваюсь! – во всадника. В плечо ему прямо. Всадник отвалился назад, лошадь с испугу подсела, и они обрушились вместе на землю с грохочущим железным звуком, будто пирамида из консервных банок рассыпалась.
Я откатывался в сторону и уже слышал свист срывающихся арбалетных болтов. Фрт-фрт-фрт! Не попали, один чирканул по ноге. Но разозлили они меня изрядно. Захотелось их всех немножечко перебить.
– Не стрелять! – прохрипели откуда-то глухо.
Будто из-под земли.
И уже слышал я визг, и кто-то волок уже куда-то прозайку Тытырина и бил его древками копий. Картина сама по себе радостная…
– Не стрелять!
Голос был глухой, но все равно девчачий, хотя строгий и начальственный. Я думал уже начать отбиваться, пулять, как ненормальный, в разные стороны, стрелять, валить, Берта и Дырокол хотели крови…
– Опустить оружие! – велел голос.
Ну, думаю, хоть один здравомыслящий человек. И я тоже не стал стрелять. Демонстративно, с дружелюбной улыбкой спрятал револьверы и огляделся, оценил обстановку. Ситуация так себе: меня окружили, где-то вне зоны видимости Тытырин прорычал какое-то проклятие на своем псевдославянском.
Вокруг костра, ощетинившись пиками, алебардами, арбалетами, луками, кривыми секирами и другим средневековым оружием, стояло воинское формирование. Мрачные типы в черной лакированной броне, с белыми лицами.
О, девчонки! Так и есть, Эльфийская Ортодоксальная Лига. Встречался я уже с ними, встречался. Серьезные девицы. Предводительница у них симпатичная. Ариэлль, кажется, а в миру… память подводит… Анна Косатова? Нет, Косолапова. Пусть Ариэлль, это имя мне нравится. Надеюсь, что не ее я подстрелил.
Впрочем, вокруг были не только девчонки, несколько косматых парней в каких-то лохмотьях тоже присутствовали. Угрюмо сжимали томагавки, но при этом выглядели нерешительно.
И лошадь еще. Все стояли вокруг меня и вокруг лошади, а та лежала себе на траве и, судя по довольной морде, подниматься не собиралась. Хотя под ней что-то явно шевелилось и стремилось вырваться на свободу.