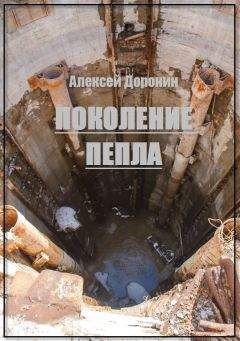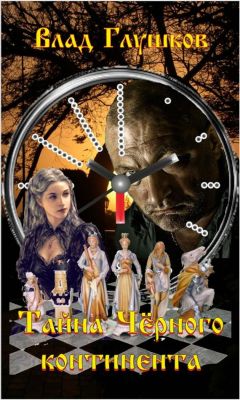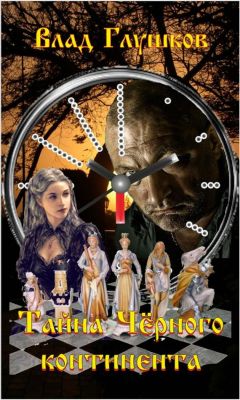Алексей Доронин - Поколение пепла
– А про это я тебя не спросил. Прокопьевск такой же мой дом, как и твой. И сдохнуть я хочу на родной земле.
– Не знаю, нужен ли нам такой, как вы, – уже без обиняков сказал ему Саша. – А если пытать будет некого, не заскучаете?
– И чего они привязались к моим инструментам? – Мясник, казалось, разговаривал сам с собой. – Врачом стать хотел, но не прошел по конкурсу. И попал туда, где мяса навидался столько, что жрать его не могу.
С этими словами он махнул Саше рукой и пошел к выходу, нескладный и страшный, такой неуместный среди пальм в огромных кадках и девушек-секретарш в выглаженных платьях, о которых Богданов заботился с одинаковым старанием.
* * *– Ты уверен, что это должен быть Прокопьевск? – правитель оторвал глаза от карты Кемеровской области. – И что там ценного?
– Там есть уголь. Буквально под ногами.
– А нужен ли он нам?
– Пока нет, но если промышленность будет развиваться, он вам понадобится.
– Ну ладно. Быть по сему. Ты же ботаник, – Богданов царским жестом исправил что-то в своих бумагах. – Растительный мир Кузбасса будешь изучать. Пестики с тычинками. И пиши свой Талмуд дальше. Может, грядущие поколения это оценят.
Странно, но Данилову показалось, что он говорит это без сарказма.
Проходя по главной улице города, как приговоренный к смерти по тюремному коридору, Александр ловил на себе взгляды. Разные. От равнодушных до слегка неприязненных. Но еще чаще – сочувственные.
Они уже все знали – новости в городе разносились быстро.
Александр давно понял главный минус жизни затворника. Когда ты попадешь в беду, рассчитывать придется главным образом на себя. Это были в массе хорошие честные люди, но он не был частью их семьи. И хотя они относились к нему с уважением, Саша уже давно чувствовал неприятный холодок. О его участии в обороне Подгорного тоже уже забывали. Многие из тех, кто помнил, были мертвы, а для остальных – даже для новосибирцев, не говоря об алтайцах – даже для его прежних учеников, он был уже не героем и не хранителем знаний, а тем, кто занимается крючкотворством и получает хороший паек, не утруждая себя физическим трудом. Отцом выродка, которого здоровые дети боялись и презирали. А теперь еще и мужем предательницы, которая, как говорили старухи, дружила с нечистой силой.
С чего им его жалеть? Их жизнь тяжела, и, если после избавления от Мазаева они думали, что это скоро изменится, то теперь знают, что это навсегда. Да, крайности вроде ям для рабов и травли медведем исчезли. Но именно исчезновение экстремумов показало им тот средний уровень, который ждет и их детей на веки вечные. Их беда была в том, что, в отличие от настоящих крестьян, они помнили и другую жизнь.
* * *Река времени несла его вперед. Буруны и пороги остались позади, плаванье было безопасным, но течение почему-то все убыстрялось.
Один год в детстве с его радостями и несчастьями помнится как целая жизнь. Разбитая в кровь коленка и робот-трансформер, подаренный на седьмой день рожденья, занимают в памяти больше места, чем операция по удалению аппендикса в студенческие годы, чем вручение диплома и первая работа. А все, что после двадцати пяти, и вовсе оживает в памяти в виде отдельных эпизодов – вех, отмечающих твой путь.
Дни, похожие один на другой, проходили.
Казалось, еще недавно тебя кормила грудью мать, и вот ты уже целуешь грудь жены – куда более старательно, она ведь может обидеться. Недавно ты был полным сил и мог бегать целый день, а теперь уже не стал бы, даже если бы имел те же силы.
Только по тому, как растут дети, особенно чужие, и стареет он сам, Александр мог следить за бегом времени. У него уже появились первые морщины, хотя до седины было еще далеко.
«The grass was greener… – вспомнил он слова из незабвенной «Стены». – The light was brighter…»
Она появилась в дверном проеме, заспанная. Халат был коротким, а она – красива, несмотря на нечесаные волосы и нездоровый от бессонницы цвет лица. Если Данилов принимал смену сезонов жизни спокойно, то Алиса была не из тех людей, кто мог с этим смириться, поэтому каждый прожитый год ложился у нее на сердце тяжелым грузом. И хотя она все еще выглядела моложе ровесниц, бег наперегонки со временем она была обречена проиграть.
– Он опять орет.
– Он никогда не кричит просто так, – успокаивающе произнес Саша. – Дай ему еще каши.
– Кончилась, – мрачно сказала жена. – Он съел всю кастрюлю.
– Ну, тогда хлеба.
– Вот сам и дай. Я тебе в служанки не нанималась.
– Ты забыла добавить: «Тупая сволочь».
– Тупая сволочь.
– Безмозглая овца. Ну вот, теперь формальности соблюдены, я сам пойду на кухню и сварю еще гречки.
– Если бы она была.
– Ну, тогда я дам ему хлеба.
– Дай, – ее лицо вдруг исказилось, как от боли. – Я не знаю… зачем он живет. И зачем я живу.
Гоша был непритязателен. Хлеб был ржаной – пшеница у них никак не хотела расти – из муки очень грубого помола, но мальчик обычно его ел с аппетитом, словно камнедробилка перемалывая целые булки и караваи редкими острыми зубами. На пол тогда сыпались крошки, ребенок громко чавкал.
«Человек ли он?» – этот вопрос Данилов много раз задавал себе.
– Хороший зубастик. Иди сюда, иди.
Когда он зашел в комнату, Гоша сидел на невысоком шкафчике. Увидев отца, мягко спрыгнул, подошел к нему и обхватил за шею, радостно чирикая по-своему.
Он был ростом ему уже по грудь, носил в четыре года тридцать пятый размер обуви и одежду на девятилетнего. У них еще оставалась довоенная одежда и обувь, но каждая вещь пережила множество реставраций.
Он был очень большой, но хотел забраться на ручки. С кряхтением Александр поднял его. Мышцы у Гоши тоже были не по возрасту развитые, и сдвинуть его с места, если он того не хотел, было трудно. «Когда он вырастет, у него будут проблемы с сердцем и позвоночником. Похоже, он станет настоящим гигантом».
Малыш уткнулся ему в плечо большой бугристой головой. Сейчас, когда он был коротко подстрижен, ее странная инопланетная форма бросалась в глаза.
Он был не очень голодный, а просто хотел пожевать что-нибудь, чтобы успокоиться. Иначе мог бы укусить за плечо. Он не всегда был таким милым. Иногда они надевали на него рубашку с зашитыми рукавами – чтоб не обрывал и не съедал обои и не раздирал себе пальцами кожу. Но даже тогда он мог грызть мебель. Собачий намордник Александр на него надевать не хотел. Порой по утрам его одежда была в крови и ею же была окрашена пузырящаяся слюна на губах. Своими странными зубами и от злости, и от смеха Гоша иногда прокусывал себе язык, а затем пачкал стены кровью, будто рисуя на них странные картины.