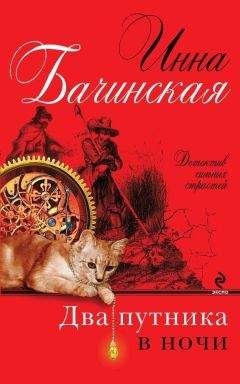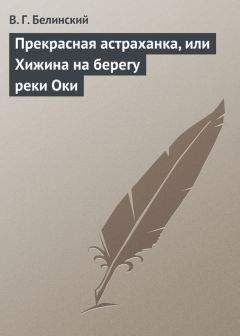Валерий Елманов - Битвы за корону. Прекрасная полячка
— Только саблю принимать не вздумай, если он ее тебе протянет, — тихо, сквозь зубы предупредил я бывшего крупье.
Впрочем, мое предупреждение оказалось напрасным. Ходкевич никому не отдал своей сабли. Встав напротив Емели, он некоторое время вглядывался в его лицо и, достав ее из ножен, решительно переломил клинок о колено, бросив обломки к ногам псевдоцаревича.
Ну что ж, пусть так. Главное, мы выиграли, ибо из распавшегося круга на землю полетели сабли и прочее оружие шляхты, а касаемо гетмана я не особо расстраивался — пока будем добираться до Колывани, найдется время для задушевных разговоров.
Глава 37
ПЛЕННЫЕ
— Хошь бы словцо вымолвил, — ответила мне Галчонок, когда я на вторые сутки нашего пребывания в Юрьеве спросил ее про Ходкевича. — Чую, больно ему, рана-то глыбокая, ан все одно: молчит яко бирюк.
Я понимающе кивнул, осведомившись о самочувствии наших раненых. Та скорбно вздохнула:
— Не подсобило питье Резваны — помер стрелец Огурец.
Она всхлипнула, но сделала вид, будто закашлялась, испуганно косясь на меня — не распознал бы князь, не то выгонит, как предупреждал. Я «не распознал». Коль сдерживается, чего там, не стоит придираться. Она и так показала себя молодцом, что под Оденпе, что сейчас, после битвы под Юрьевом, когда работы прибавилось вчетверо. Шутка ли — более сотни раненых. Только у моих гвардейцев умерло от ран шестеро да столько же у стрельцов. Точнее, если добавить Огурца, получается семь. А точно таких же безнадежных в здании городской ратуши лежит еще не меньше десятка. И ведь мутило поначалу девчонку, но держалась стойко: накладывала мази, бинтовала, утешала, и хватало силы воли давить в себе эмоции.
Лишь раз, поднимаясь на второй этаж ратуши, я случайно услышал, как она буквально захлебывалась от рыданий. Ревела совсем по-детски: горько, безутешно, навзрыд. Крадучись, я неслышно попятился, вернувшись вниз. А когда буквально через десять минут проходил мимо раненых, увидел Галчонка подле них. На лице улыбка, хлопочет, что-то приговаривает, воркует. Полное впечатление, что я ошибся и ревела другая. Но заметно припухший кругленький носик малинового цвета предательски подсказывал, что именно его обладательница плакала совсем недавно.
— Значит, молчит, — протянул я. — Ладно, пусть молчит дальше.
Я понимал его состояние — очень уж удручала гетмана мысль о поражении. Окажись оно обычным — полбеды, но ведь полнейший разгром. А если к этому добавить, что со стороны победителей в сражении участвовало в полтора раза меньше народу, чем у него самого (всего три тысячи против его четырех с половиной), — и вовсе нестерпимо. Особенно припомнив, как он сам совсем недавно долбил шведов, имевших куда больше людей. И вот уже вторые сутки Ходкевич в ответ на все мои вопросы отделывался кивками или мотанием головой.
Я не торопился к нему подступаться, решив дать время. Забот у меня и без гетмана выше крыши. Одни церковные мероприятия чего стоят. Некоторых можно избежать или, изловчившись, сократить свое присутствие, улизнув со всенощной. Но и вовсе не появляться в храме нельзя — не поймут. Тот же торжественный молебен по случаю победы, праздничная пасхальная служба, да мало ли. Никон и без того на меня косо глядит, когда я, потакая желанию тяжело раненного Семицвета, распорядился сварить и принести ему мяса. Как назло, бегущий с блюдом гвардеец напоролся на священника, который, учуяв свинину и узнав, для кого она, ринулся уговаривать меня не свершать столь страшный грех.
— В такую субботу — и мясо?! — в исступлении брызгал он слюной.
— Больным, в походе и на войне дозволительно, — попытался отбиться я, но не тут-то было.
— То в середу дозволительно али в пятницу, а в канун Пасхи… — Никон даже закатил глаза от ужаса. — Бога ты не боишься, князь. И самому ратнику таковского опосля нипочем не отмолить.
Семицвет испуганно посмотрел на священника, жалобно на меня и, тоскливо вздохнув, сглотнул голодную слюну, уставившись на блюдо с ароматно дымившейся свининой.
— А ему и не надо отмаливать, — огрызнулся я и, повернувшись к гвардейцу, подмигнул ему, ободрив: — Ешь смело.
На себя беру твой грех. Готов
Дать ответ во всем: я знаю, Боже,
Милосердье — для Тебя дороже
Всех молитв, обрядов и постов![68]
Примерно в таком духе я и сказал. Вообще, как я заметил, последние пару-тройку месяцев строки из Филатова мне на ум что-то нейдут, да и из Высоцкого тоже редко. Видать, слишком суровые деньки пошли, вот и всплывают в мозгу творения иных авторов, посерьезнее. Даже когда дело касается сатиры, и то все больше Крыловым обхожусь.
Но раненых я навещал нечасто — других дел по горло. К примеру, с пленными, коих теперь насчитывалось более трех тысяч. Особенно со шляхтой. Нет, понятно, что выкуп на бочку, да и дело с концом. Но прежде чем объявить о нем, надо ж назвать суммы, да такие, чтоб они оказались и приемлемые, и не слишком низкие. Хорошо, под рукой имелся Емеля, который неплохо знал финансовое положение некоторых пленников, но опять же далеко не всех. А как быть с прочими?
Вот с казачками не в пример проще. Собрав старших, я объявил, что отпускаю всех за выкуп, и немедленно огласил суммы. Двести рублей с простого, пятьсот с десятника, тысяча с сотника, а с атаманов грех взять меньше двух. Цифры, откровенно признаюсь, взял с потолка.
— А чего столь дорого? — выкрикнул кто-то.
— Так ведь мы на это серебро людишек своих из татарской неволи выкупать станем, — пояснил я, уточнив: — Да не таких, как вы, кто на стороне папежников против Руси воюет, но истинно православных.
Ответ им не понравился, загомонили, загудели, понеслись выкрики, что шли они на иные земли, кои принадлежат латинам. Откуда им знать, что они числятся за Русью.
— Незнание не освобождает от наказания, — веско ответил я, — а потому о снисхождении советую забыть. Так есть желающие освободиться за выкуп?
— Желающих много, — буркнул самый главный из них, некто Яков Бородавка. — Худо, что деньги к ентому желанию нет.
— Тогда предлагаю… выбор.
И я пояснил, в чем он состоит. Дескать, можно добросовестно сесть в острог и там дожидаться милости от государя. Но когда она последует, бог весть, да и неведомо, последует ли вообще. Не любит он, когда православные выступают против православных. Опять-таки после вольной волюшки сидеть в затхлой сырости, смраде и вони и, разумеется, впроголодь, довольствуясь коркой хлеба в сутки, тяжко. Мыслится, половина из них передохнет в первый же год.
Казачья старшина, успев потомиться в остроге и вкусив все прелести тюремной жизни, разом закивали головами. Вот и чудненько. И я перешел к альтернативе: тяжелые работы, но на свежем воздухе и с нормальной едой. Притом продлятся они не более двух лет, а при условии досрочного их выполнения отпустят раньше. Разумеется, самим атаманам и сотникам и тут быть старшими, то есть в основном придется не работать, а командовать своими бригадами.
А по окончании работ тоже выбор. Если кто пожелает вернуться в Речь Посполитую, держать не стану, но пешим оборванцем и с пустым кошелем. Кому захочется конно, можно остаться подзаработать и на справную одежку, и на коня. Более того, если кто-то захочет вернуться к прежнему занятию хлебопашеством, никаких возражений. Пустующей земли вокруг полно, дадена она будет в полную собственность, и над душой никаких дворян и шляхты. Знай себе трудись да плати налоги королеве. Или поступить на ратную службу к Марии Владимировне — такое тоже приветствуется. Причем станут они ходить под началом не у воевод-князей, но у такого же казака, и, сделав шаг в сторону, представил стоящего за мной Корелу.
Народ оживленно загудел. Донского атамана знали все, кто был с Дмитрием в Путивле. А я шутливо добавил, что и сам бы охотно пошел под его руку, да вот беда — чином не вышел.
— А враз нельзя? — раздались выкрики.
— Нет, — отрезал я. — Вначале мне надо увериться, что вы и впрямь готовы искупить свой грех перед православной Русью, а уж потом станем решать, кого брать, а с кем чуток повременить.
— А ежели сбегем? — нагло ухмыльнулся чубатый казак, стоящий за спиной атамана, но выше его чуть ли не на голову.
— Как звать-то тебя, будущий беглец? — миролюбиво осведомился я.
— Зборовский я, слыхал? Батюшка мой Самойло гетманом был на Сечи. А кличут люди добрые Александром, — показал он в задорной улыбке белоснежные и ровные, один к одному, зубы.
— Тогда худо твое дело, Александр Самойлович. Из-под Ревеля через всю страну навряд ли получится пройти незамеченным, а когда поймают, не миновать тебе острога.
— Эка невидаль, — ухмыльнулся он и горделиво вскинул голову. — Нас турки, как спымают, на палю саживают, и то ничего, кряхтим да терпим.