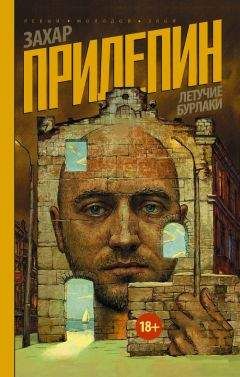Обитель - Прилепин Захар
– Рейхертом нет, но… – поспешно, хотя и тут несколько валяя рыжего дурака, отвечал Афанасьев.
– И не надо, – оборвал его Крапин, – будешь пользоваться этой штукой, – он развернулся и направил в лоб Афанасьеву натуральный пугач.
Афанасьев скосился на Артёма: что, мол, такое? Артём пожал плечами: и такие здесь шутят шутки.
– Сдаюсь, – сказал Афанасьев, но руки вверх не поднял.
– Глисты у всех лис, – пояснил Крапин. – От глистов помогают американские облатки. Только лиса не знает, что ей нужно их глотать, поэтому приходится использовать этот инструмент.
Крапин повернул пугач в сторону и выстрелил в картинку с лисой. Отскочив от стены, на стол упала белая облатка.
– Главное, приспособиться к этой работе, – объяснял Крапин, по-прежнему не глядя на Афанасьева. – Бывший наш напарник был опытным домушником, поэтому ходил с пугачом по лисьим квартирам. Стучался и на вопрос “Кто там?” стрелял в рот появившейся хозяйке. Но Глаше такое обращение надоело, и она его укусила… А меня тоже третьего дня покусали, – поведал Крапин, обращаясь исключительно к Артёму. – Везли на самолёте из Кеми трёх молодых лисиц… Тряска, бензин – видно, одна очумела совсем. Стал выгонять их, уже на острове, – она меня хвать за руку. Боялся, загноится, – но вроде ничего, – Крапин засучил рукав и показал сухо подживающие следы лисьих челюстей. – Так что ты продумай, как тебе половчей выполнять свою работу, – сказал Крапин, наконец повернувшись к Афанасьеву и передавая ему пугач.
– Можно рыбу бросать лисе, она рот раскроет, и тогда ей в пасть: бах! – предложил Афанасьев крайне серьёзно.
– Можно, – не менее серьёзно отвечал Крапин. – Но за одну потерянную облатку работник получает дрыном по хребту, я дрын с острова привёз, не забыл… А за вторую – уезжает на обозначенную ранее Секирку, сидеть на жерди и запоздало раскаиваться.
Афанасьев наскоро сложил понимающую физиономию, подогнав одну бровь ко второй уголком и огорчительно поджав свои всегда розовые, будто чуть вспухшие, далёким девкам на радость, губы.
– Тут у нас зубной кабинет, – толкнул следующую дверь Крапин. Афанасьев присвистнул. – Только лисам лечат не плохие зубы, а хорошие – самые острые резцы…
В отдельной, крытой сарайке располагалась ещё и фотография: специально для лис. Фотографировал сам Крапин: у бывшего милиционера обнаружилось множество полезных навыков.
– Щёлкните меня, гражданин начальник, – запросился Афанасьев, зачем-то подтягивая свои новые хлопчатобумажные штаны. – Не помню, когда последний раз фотографировался.
– У нас после того, как фотографируют, – снимают шкуру, – без улыбки ответил Крапин, сворачивая новую самокруточку.
Возле фотографии лиса играла с местным молодым псом, родившимся в тюрьме, о чём он вряд ли догадывался.
Собака наскакивала и вроде бы брала силой и задором, но всякий раз лиса бесшумно выворачивалась. Красивый хвост свой при этом она держала палкой, чтоб не запачкать: кокетка, да и только.
– Пёс радуется, что он сильней, – сказал Крапин. – Пёс – дурак. Он только думает, что может укусить. А она от природы – убийца. И если что не так – сразу же убьёт.
Артём незаметно всё поглаживал большой палец о средний и указательный, словно пытаясь вспомнить то ощущение, когда он, пальцами вцепившись в лавку… смотрел на Галю и дышал.
Ночью лиса ходила по крыше.
Дом несколько дней как топили. Потрескивало не только в старой печи, но и стены отзывались – кряхтя, и потолки – удивлённо, и полы – с укоризною.
Ночи вернулись тёмные, словно прокопчённые и промёрзшие до самой сердцевины за то время, пока их всё лето держали взаперти.
Пахла ночь то лисьим, то селёдочным хвостом, и, если приходилось выйти во двор по нужде, – сырой, отдающий смрадом ветер толкал в затылок.
Появились звёзды – всё лето их не видел, веснушчатые, как рука владычки, но и они тоже будто отдавали селёдкой.
С улицы неизменно хотелось в избу, в тепло; жаль, чая совсем не было, и ягод тоже – а то как чайку хорошо, когда звёзды в окне и мутный, пересоленный ветер, подвывая, носится туда-сюда, словно потерял свой ошейник.
Афанасьева заселили в одну комнату с Артёмом, и они заняли общую, на полу застеленную, лежанку.
– …Возле Йодпрома, – рассказывал Афанасьев, которому не спалось, – поймали, не поверишь, Тёма, дедка одного. Оказалось – монах, жил в какой-то норе, питался корешками и ягодками… Может, и прикармливал кто – но сам он сказал, что жил молитвой.
Артём, который уже готовился спать, открыл глаза и увидел в свете уличного фонаря растрекавшийся, давно не белённый потолок.
– Говорят, дед и не знал про то, что теперь тут лагерь, и семь лет к людям не выходил, – тихо засмеялся Афанасьев. – Его подержали три дня в ИСО, ничего не добились и отправили в Кемь: иди работай, дедушка, антихрист пришёл, от него в лесу не спрячешься… Так он, неведомо как, опять вернулся на остров с целью залезть в нору поглубже и больше уже не вылезать… Но тут его уже быстро поймали и определили на этот раз в четырнадцатую роту.
Рассказ свой Афанасьев вёл, опираясь рыжей башкой на руку, но рука затекла, и он повалился на спину.
– И что? – спросил Артём, повременив.
– Дед? – беззаботно отозвался Афанасьев. – Доходит уже. В норе оказалось проще выжить, чем в четырнадцатой роте.
“А я знаю этого отшельника”, – подумал Артём, но ничего не сказал.
Вместо этого спросил:
– А твои друзья как? Не передохли?
Афанасьев притих, раздумывая.
– Какие друзья? – спросил так, вроде бы и не догадавшись.
– Да блатные, – ответил Артём; он втайне мечтал, чтоб однажды набежала одичавшая резвая волна и всех его неприятелей разом унесла в море.
Афанасьев вздохнул.
– Нет, Тёма, они мне не друзья. У вора вообще не может быть друзей. Может, ты думаешь, что блатной – это привычка брать чужое, подлый характер и гнусные повадки? И ещё речь – ну да. Слышал, как они разговаривают? – Артём слышал, но забыл; Афанасьев с ходу напомнил, чуть, в меру, подгнусавливая: – “Из-за стирок влип: прогромал стирочнику цельную скрипуху барахла. Но тут грубая гаца подошла, фраера хай подняли. Чуть не ступил на мокрое!” Я, Тёма, все эти слова знаю, и повадки их запомнить смогу, и характер себе испортить, и заиметь привычку брать чужое и не раскаиваться о том. Но, Тёма, перекрасить свою фраерскую масть я не смогу всё равно! Вор – это другое, чем мы с тобой, растение! У него на месте души – дуля, и эта дуля ухмыляется и показывает грязный язык. Вором нельзя стать на время, поиграть в него тоже нельзя, вор – это навсегда. Они воры не потому, что ведут себя, как воры, а потому, что больше никак себя вести не умеют… Я для них в самом лучшем случае – порчак. Знаешь такое слово, Тёма? Порчак – это и не фраер, и не вор, а так, подделка. От фраера ушёл, вором не стал – такого колобка съедают первым… Лучше уж фраером оставаться и не строить из себя.
Афанасьев, видимо, что-то вспомнил важное и занимательное, отчего привстал на локте.
– Тебя, Тёма, знаешь как назвали они однажды? Я слышал случайно! “Битый фраер!” Вот как! Битый фраер, Тёма – это хорошо, это почти уважение. Они и тебя зарежут, причём с большей охотой, чем обычного фраера, – но в твоём случае им уже будет чем похвастаться… Заслужил, Тёма, точно тебе говорю. Я сам, брат, – тут Афанасьев понизил голос, – не ожидал, что ты так долго проживёшь… Хорошая у тебя звезда. За пазухой её носишь, наверное?
Артём, сам не понимая своего движения, положил руку на грудь, будто под рубахой у него действительно что-то было.
По крыше опять прошла лиса, словно выискивая лаз в тёплые комнаты, к запахам съестного.
Афанасьев посмотрел наверх и спросил:
– Ты, поди, и смерти не боишься? Думаешь, и нет её?
В полутьме Артём заметил, что его товарищ даже кивнул головой вверх, словно это не лиса, а самая смерть там и бродила.
– А что, есть? – спросил Артём.
Он-то наверняка знал, что лиса.