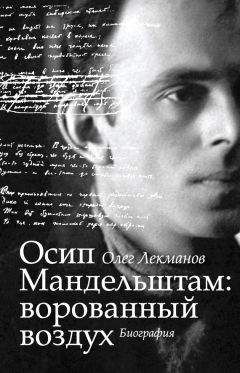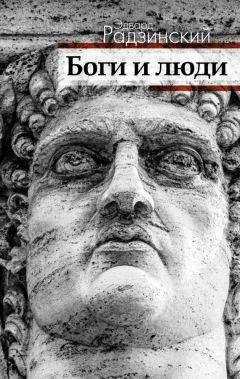Олег Радзинский - Агафонкин и Время
Агафонкин слушал, гадая, зачем он им нужен: у них была юла. И Платон, знавший, что такое юла.
– И что, – вслух сказал Агафонкин, – вы хотите помочь ГКЧП? Встать на их сторону?
– Помочь ГКЧП? – Путин покачал головой, не веря в бестолковость Агафонкина. – Что вы! Нет, конечно: гэкачеписты – отработанный материал. Они, конечно, искренне пытались остановить развал страны, но на этом этапе народ их не поддержит. Наоборот. – Путин доверительно наклонился к Агафонкину. – Мы, Алексей, хотим помочь победить путч. Защитить, так сказать, завоевания демократической революции. – Он засмеялся, приглашая Суркова посмеяться вместе с ним. Тот улыбнулся, внимательно следя за Агафонкиным серьезными красивыми темными глазами.
– Путч же и так победили, – сказал Агафонкин. – Без вашей помощи.
– Именно, именно, Алексей, – обрадовался Путин, – наконец-то дошло – именно: без нашей помощи. – Он снова подмигнул Агафонкину: – А нужно, чтоб с нашей. Чтобы именно наша команда защитила страну от путчистов. Понимаете?
Агафонкин начинал понимать.
– Смотрите, – продолжал Путин. – Я в этих письмах самого себя – тогдашнего – проинструктировал и других подготовил: всех своих ребят собрал к 91-му – Ротенбергов, Тимченко, Сечина, Якунина. Ковальчука. То есть они и так со мной были, – поправился Путин. – Они по жизни со мной, но теперь я поставил конкретную задачу: стратегия команды во время августовского путча. Все на местах, ждут – в том времени. И сам я, вместо того чтобы кабинет Собчака охранять, – рассмеялся Владимир Владимирович, вспоминая охрану им кабинета питерского мэра, – буду в этот раз со своими в Москве – поближе к центру. Будем охранять Президента. Бориса Николаевича.
– И? – спросил Агафонкин.
– Что “и”? – удивился Путин. – Переломный момент в жизни страны: суматоха, хаос. Запросто можно выплыть наверх. Взять власть.
– А как же Ельцин? – не понял Агафонкин. – Он же Президент.
– Ну, Ельцин, – сжал губы Путин. – Ельцин. Время-то какое было, Алексей? Опасное было время: всякое могло случиться. Тем более, – добавил он, вздохнув, – тем более Борис Николаевич был человек неосторожный: любил рисковать, на танк полезть. И это, заметьте, во время вооруженного конфликта. Лез на рожон. Так ведь, Владислав Юрьевич? – спросил он молчавшего Суркова.
Тот кивнул, соглашаясь: так и было. Опасно во время путча лазить на танки.
– В общем, Алексей, думаю, идея ясна: Борис Николаевич – национальный герой, первый Президент России, трагически погибший от рук контрреволюции. Да так и лучше, сами подумайте: останется человек в народной памяти незапятнанным, почитаемым, как… Ленин. Именно, – обрадовался Путин, – как Ленин. Символ революции. Вовремя уйти – большое дело.
“Сурков придумал, – решил Агафонкин. – Бог-Отец умер, завещав мандат Богу-Сыну. Вот он – Институт культуры, режиссура массовых театрализованных представлений. Не зря учились, Владислав Юрьевич. Не зря”.
– Но группа беззаветных защитников молодой демократии сумела подавить путч, защитить завоевания революции, пронести знамя через огонь и так далее, – продолжал Путин. – А в награду за подвиг – возьмем власть на десять лет раньше. Вы не думайте. – Он отрицательно покачал головой. – Это не мне нужно: у меня и так все в порядке. А вот миллионам россиян, миллионам советских граждан в этом случае не придется страдать от развала, раскола и разрухи 90-х. Не для себя стараюсь.
Он помолчал, потер ладони и добавил:
– Не допустим грабительской приватизации стратегических отраслей. Не позволим возникновения олигархов. Предотвратим распад великой страны – сохраним Союз. Родина-то, Алексей, она у нас одна.
Агафонкин кивнул, соглашаясь.
– Владимир Владимирович, вам, вероятно, объяснили, – Агафонкин указал на Платона, – что юла может менять Линии Событий. Но даже если вы создадите новую Линию Событий, то на этой, нынешней, в которой мы с вами сейчас беседуем, это никак не отразится: просто будет еще один вариант отдельного События. Без продолжения. – Он нагнулся вперед, стараясь донести до Путина смысл сказанного. – А главное, вы, теперешний, даже не узнаете, получилось у вас создать новую Линию или нет. – Агафонкин улыбнулся. – Если, конечно, я вам об этом не расскажу.
– Тогда и волноваться не о чем, Алексей, – весело сказал Путин, – тогда никто ничем не рискует, правильно?
– Правильно, – согласился Агафонкин; почему-то он не был так уж уверен.
– Значит, по рукам? – кивнул Путин. – Вы с нами?
– Не понимаю, для чего я вам нужен? – спросил Агафонкин. – Вот она юла – закручивайте. Отменяйте 90-е.
– Если бы было так просто, – вздохнул Путин. – Юлу должны закрутить вы.
* * *Саша снова болел: щеки покрылись мелкой сыпью, язык красными зернышками – скарлатина. Он дышал с хрипами, пытаясь заглотить воздух, которого не хватало легким. Катя смазывала детским вазелином шелушащиеся ладони и уши ребенка, поила сладким чаем, а он лежал на раскладушке, порой заходясь в конвульсии кашля, словно хотел вывернуть горло наизнанку.
Хуже всего было по ночам: Сашин кашель будил ближних соседей по коммунальной квартире, где они снимали комнату. Старая толстая, вечно замотанная грязным платком Петровна, жившая с больной дочкой в комнате слева, ругалась, что малой не дает спать и тревожит дочку, которая, проснувшись, начинала истошно кричать, жалея свои сны.
Возможно, в этих снах она была здорова: могла и говорить, и ходить. Оттого и горевала, что разбудили.
Справа жил Гоша Бура – вор, освобожденный в амнистию по случаю сталинской смерти. Гоша не ругался: он вообще много не говорил, но каждый раз, встретив Катю в коридоре или подождав за дверью общего туалета, молча хватал ее пониже спины, а иногда лез и спереди. Так же молча Катя толкала его в грудь, но понимала, что долго не продержится: Гоша смотрел на нее бусиничными, глубоко спрятанными глазами и слизывал выступавшую в потрескавшихся уголках рта слюну. “Чего ломаешься, цыца, – незло спрашивал Гоша, – все равно дашь. Ты ж шалавая – по глазам вижу”.
После гибели мужа Кате велели освободить служебную квартиру, и она ушла, оставив прежнюю завидную жизнь. Тетя Вера умерла, и в доме в поселке художников Сокол, где Катя выросла, поселились чужие люди: некуда было идти. Профком театра написал ходатайство о комнате, ее очередь шла, тянулась и никак не наступала. Главный режиссер Театра оперетты Канделаки звонил важным людям, просил войти в положение одинокой беременной вдовы, важные люди обещали, в положение входили, но комнату не выделяли. Канделаки не сдавался и продолжал подписывать письма от театра, уходившие по инстанциям – в никуда. И он, и его жена Шмыга жалели Катю. После случившегося с ней горя ее в театре стали больше любить.
Первый год Катя жила на оставленные мужем деньги и продаже вещей, что скопила за время замужества. Вещи Катя продавала подругам по театру и их знакомым, выходило неплохо. Она хорошо и много ела – за двоих, как и полагалось женщине, ожидавшей ребенка. Вещи, однако, кончились, с ними кончились и деньги. Комнаты, что она снимала, становились все хуже – меньше, грязнее, дальше от центра, и Саша, словно заражаясь наполнявшим их воздухом несчастья, болел все больше.
Саше – названному в честь мужа – шел пятый год. Он рос красивым, но болезненным ребенком – с частыми простудами, заставлявшими ее брать больничный и пропускать репетиции. Постепенно ей стали давать меньше ролей, перевели во второй состав, и жизнь – веселая, искрящаяся, жизнь – постоянное приключение, жизнь – поиск любви, зависть подруг, прежняя Катина жизнь превратилась в сидение с нездоровым молчаливым ребенком, чьи зеленые глаза будили память о других зеленых глазах, что она старалась забыть, оттого что ничего, кроме боли, они ей не принесли.
Иногда она думала плюнуть на все и отпереть дверь ночью, ответив на дробный стук Гоши Буры – пус-ти пус-ти пус-ти. В одну из таких ночей Катя решила вести дневник.
Она купила тетрадь и, подумав, как начать, написала на первой странице:
“23 октября 56-го я познакомилась с Алешей, после репетиции, перед вечерним спектаклем. Пушкинская площадь. Так началось мое горе”.
Катя посмотрела на запись и принялась плакать: она долго не позволяла себе думать о нем, называть его имя. Назвала, записала и поняла, что любит. И будет любить.
Она знала, что никогда не расскажет сыну про Алешу: его отцом останется Александр Михайлович, застрелившийся у себя в кабинете от того, что она полюбила другого. Для сына существовала другая история: папа-герой погиб, выполняя важное задание Родины. Мальчику нужно было кем-то гордиться: не ею же.
Катя плакала тихо, давя слезы, чтобы не разбудить метавшегося в жару сына: он заснул посреди ночи, накашлявшись до мокротной хрипоты.
До утра оставалось совсем немного.