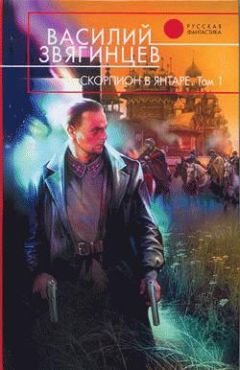Василий Звягинцев - Скорпион в янтаре. Том 1. Инвариант
Апартаменты игумена находились этажом выше, причем так расположенные, что туда не каждый из постоянных обитателей монастыря нашел бы дорогу. По винтовой лестнице через башню, потом по внешней галерее, и вдруг налево узким коридорчиком. Совсем неприметным. В его конце – дверь, которую взломать невозможно по причине не только толщины и прочности, а расположения. Ни тараном, ни просто руками, пусть и снабженными кое-каким инструментом. Такой тамбур, как раз на ширину полотнища, да еще и открывающегося «поперек хода».
Кельей три большие комнаты, выстроенные анфиладой, с несколькими смежными помещениями поменьше назвать можно было лишь с серьезной натяжкой.
Отец Флор, игумен, внимательно выслушал сообщение тмутараканского воеводы. Начальник монастыря был воплощен вполне убедительно. Поскольку имелся у него прототип, глубоко запавший в память и эмоциональную сферу Ростокина. Да и сама обитель тоже. Слегка подкорректированная копия Кирилло-Белозерского, как он выглядел в середине ХХI века, с элементами конкретной Ниловой пустыни (того же времени) и Соловков. Одним словом, тех мест, которые произвели на Игоря наибольшее впечатление.
Образование монах имел неплохое, по свету побродил, включая Святую землю. Причем пешком или на лошадях, если считать, что авиации и автобусов ему не подвернулось по причине принадлежности к Средневековью.
– Ополченцы продолжают подходить. Случится – обороняться сможем до полного ледостава. Дальше – не знаю.
– Да знать-то, владыко, и нечего. Никто сюда больше не придет. Историю знаете? Византийскую, римскую, остальную, само собой?
– Что-то я тебя, воевода, не совсем понимаю. И сам ты мне кажешься странным…
– Чем же вдруг? – оживился Шульгин. – Объясни, отче. Я бы и сам мог тебе объяснить, но хочется твое мнение послушать.
– Скажу, – игумен провел ладонью по бороде, – видится мне, что не православный ты. Католик, наверное. Или, хуже того, жидовствующий…[87]
– Упаси бог, отче. Разочарую тебя, но никаких ересей не исповедую. Другое дело, стоиков римских почитаю, Аврелия в особенности, а из греков Платона и Сократа. Только тебе сейчас надо такие тонкости выяснять? Я ж не в семинарию поступать намерился. Обитель твою отстоять от врага, и только. Потом дальше побреду по миру, искать, где еще пригодиться…
А сомневаешься – простри ты на меня руци свои, с крестом наперсным – изыди, мол, так и изыду. Сяду на коня – и дальше. Водой святою на дорожку умоюсь. Уловил мысль, отче?
– Уловил, уловил, ты не трудись особенно. Не о том моя речь… В Тмутаракани я не был, обычаи там у вас, наверное, свои. С одной стороны греки из Кафы, с другой – Дикое поле. До исконно русских земель далеко. Но манеры твои больше схожи с латинскими, будто и впрямь ты себя странствующим рыцарем воображаешь, а не воином на княжеской службе.
– Так и есть, отче, так и есть, – с живостью согласился Шульгин. – «С «лейкой»[88] и блокнотом, а где и с пулеметом по полям сражений мы прошли…» Скоро сорок лет живу на свете и воюю за правое дело, где придется или где Бог укажет, что, впрочем, одно и то же. Или не так?
– Сейчас послушник обед нам принесет, и продолжим мы нашу полезную беседу…
– С удовольствием, отче. Только укажи мне, пожалуйста, место, где я, устава не нарушая, мог бы богомерзкой привычке придаться, табачку покурить то есть. Настолько привык, что не могу без того, мозги перестают работать.
– Грех, конечно, только не мое это дело. Вон, на галерею выйди, подыми, если иначе не можешь…
Игорь продолжал свой рискованный эксперимент. Как уже говорилось, прототипом Елены была питерская студентка, покорившая его сердце пятнадцать лет назад по прямой временной шкале ХХI века в этих же местах, на турбазе по ту сторону плеса. Она, безусловно, была самой красивой и яркой девчонкой в том заезде, что сразу же ее испортило. Чересчур много внимания со стороны обладающих массой достоинств парней и мужчин. На их фоне Ростокин ничем не выделялся да вдобавок отличался совсем неуместной застенчивостью и деликатностью. А для двадцатилетней девушки это скорее недостаток, чем достоинство.
Короче, тогда свою партию он проиграл. Пока Елена не осознала своей здесь позиции, кое-что у него получалось. Во время заполуночных песен у костра с легкими возлияниями и танцами ему удалось и грудь ее осторожно погладить, и к щечке губами пару раз прикоснуться, пьянея от запахов и надежд на продолжение. Но в тот раз он отступил перед достаточно условным сопротивлением, забыв, что суворовский завет – «быстрота и натиск» относится не только к военным делам.
Был бы он уже тогда отважным военным корреспондентом или космическим журналистом с именем – все получилось бы совсем иначе, и жизнь, безусловно, сложилась как-то иначе.
Уже следующим днем нашелся человек, который не забивал себе голову возвышенными мыслями. Правда, к концу срока Лена разочаровалась в нем и даже впала в депрессию, догадавшись, что две недели потеряны зря. Не так себя повела, не на ту лошадь поставила. Ошибка, если не хуже, вряд ли поправима.
Простились они с Игорем тепло, старательно скрывая друг от друга чувство горечи от воспоминаний о несбывшемся. Полгода, а то и больше переписывались «как близкие друзья», причем на бумаге, а не электронной почтой, и Лена постоянно касалась листка капелькой своих духов. Зачем, для чего? Неужели из чувства изощренного садизма? Или по девичьей глупости?
Кто теперь скажет, отчего Игорь не бросил все, не метнулся из Москвы в Петербург в ближайший уик-энд? Не мог простить обиды, ждал прямого приглашения или тоже утонченно мстил?
Когда эпистолярное общение сошло на нет, он довольно долго вспоминал о своей несбывшейся любви. Последний раз вспомнил о ней незадолго до своего первого межзвездного полета, когда сидел в гнусном номере прифронтовой гостиницы на очередной азиатской войне, схваченный приступом «вельтшмерц», мировой тоски, и набрасывал в потрепанном блокноте:
Ночь… Дождь… Одиночество… Тьма…
В душу вползают унылые мысли.
Кто я? Что? И что сделал я?
Чему еще суждено свершиться?
Спас ли я? Или я погубил?
Только вопросы, и нет ответа.
Словно фонарщик прийти забыл
И не зажег волшебного света.
И окна, наверно, твои не горят.
Спишь ли? Тоскуешь? Рассвет у порога.
Может быть, вспоминаешь меня?
Может быть, веришь? Ведь это так много!
Мне твоя вера дает силы жить,
Добрая фея моя речная!
Встреченная на исходе пути,
А может быть на пороге рая?
Рая земного, а не в небесах,
Что для тебя мной храним и вечен,
Где шепчут волны и блещет роса,
И бор серебром весь насквозь расцвечен…
Нет, все еще впереди, и взметнут
Крылья тебя, якорям всем на радость.
И в ярком небе еще расцветут
Листья и звезды, которым не падать…
…Ночью дождливой стою у окна,
Капли стекают по стеклам гладким.
Осень в Пекине так же мокра,
Как наша осень на Петроградке…[89]
Отослал ей это стихотворение, но ответа не получил. Так постепенно и забылось.
Если правильно сказано кем-то, что стихи – высшее воплощение человеческого духа, то они, эти и другие тоже, вполне могли вызвать к жизни и материализовать образ девушки. Неотреагированные эмоции, сказал бы в этом случае Александр Иванович, обладают чудовищной силой. Не знаю, как там насчет веры «в горчичное зерно», которая позволит перемещать горы, а вот два недоучки – художник Гитлер и семинарист Джугашвили – дали миру понять, как опасно лишать человека перспективы. Купил бы еврейский магнат году в тысяча девятьсот десятом или тринадцатом за тысячу марок десятка три акварелей Адольфа Алоизовича да устроил выставку в Вене с хорошей прессой, как бы ему были благодарны шесть миллионов соотечественников и пятьдесят миллионов прочих, ни за что погибших людей! Кажется, ни один из художников, попавших в собрания Третьякова или Щукина, не возжелал учреждать рейхи, вешать на фонарях коллег, сколь бы их колорит и мазок ни казались им чуждыми и отвратными.
А теперь судьба предложила ему эту же девушку в полное распоряжение, с правом переиграть партию по новым правилам. Сумеешь, нет?
Он пересек темный коридор, постучался в дверь.
– Это ты, князь? – спросила Елена, перед тем как отодвинуть засов. Сам вопрос уже служил ответом.
– Кто же еще?
Она стояла за порогом, кутаясь в льняную простыню, прикрывавшую голые ноги едва до колен.
– Зачем пришел?
– Как будто не знаешь…
– Знаю, – не то вздохнула, не то всхлипнула княжна. – Очень долго ждал, так?
– Ты даже не знаешь, как долго…
– Знаю, – повторила она. – А если война закончится не так, как мы надеемся?
– Тем более. Тогда и пожалеть об упущенном некому будет.
– Понимаю. Я и сама тебя ждала, чего скрывать…
Она за руку провела его через едва освещенную дрожащим светом свечи прихожую к узкой, для монахов устроенной деревянной койке, поверх из лыка сплетенной сетки прикрытой тонким тюфяком. Сбросила с плеч простыню.