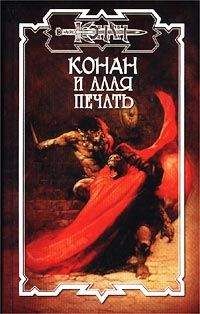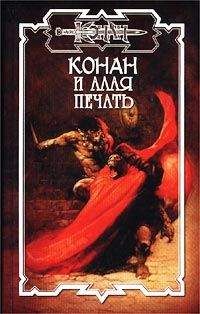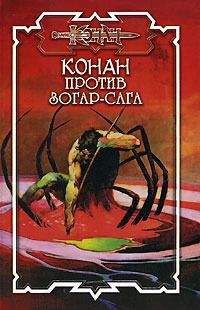Владимир Романовский - Добронега
Ход мысли отвергнутых влюбленных всегда одинаков. Сперва они начинают сомневаться в себе — мол, возможно я недостаточно хорош для нее. Затем им на ум приходит, что пока они страдают в отдалении, нерегулярно питаясь и сочиняя или вспоминая нелепые вирши, предмет вожделения не теряет времени, и время работает отнюдь не на отвергнутых. Нехитрое логическое построение это приводит в конце концов к мысли, что в жизни любимой женщины есть кто-то еще, и сразу вызывает желание на этого кого-то посмотреть, дабы знать наверняка — действительно ли меня предпочли лучшему?
Васс остался в Константинополе, следовательно, «кто-то еще» был не Васс. Неизвестно, кстати, был ли Васс любовником Марии ранее — поразмыслив, Хелье пришел к выводу, что никаких доказательств любовной связи Васса и Марии у него нет. А вести все не приходили. Значит, не Васс. Кто же?
Он решил поговорить со стражниками, многие из которых знали его как человека, оказавшего князю услугу. Под большим секретом и за четверть гривны ему объяснили, что почти каждый вечер Мария в сопровождении служанки выходит из детинца и направляется вниз и вправо, а возвращается когда к полуночи, а когда и позже. Последняя надежда разлетелась в пыль. Стало ужасно обидно.
То есть как! Я, стало быть, еду в Константинополь, рискую жизнями — своей и своих друзей, не сплю с Эржбетой, скачу быстрее ветра в Киев, лошадка погибла, а она вон чего. Я мог не ехать в Константинополь, силком меня не тянули, а спать с Эржбетой не больно-то и хотелось, и все же, и все же! Она, Мария, мне жизнью обязана, если верить Эржбете. И вот.
С другой стороны, любовь ведь бескорыстна. Должна быть. И преданность тоже. Вон Годрик служит Диру. Но Годрик — холоп, это у него должность такая. А я не холоп. Я благородного происхождения. Мои предки пол-Европы мучили. Годрик служит, поскольку родился холопом, а я по собственной воле служил ей, а это чего-нибудь да стоит.
Он еще раз вспомнил, как хорошо было ему с Евлампией. Да, но, к примеру, ходить с нею по улице в Киеве было бы, наверное, неудобно. Она бы всего стеснялась, краснела бы, глаза долу, дергала бы меня за рукав. Тут Хелье стало стыдно. А ведь, наверное, так же про меня думает Мария.
Тоска и отчаяние переполняли грудь. Хелье решил обо всем рассказать Гостемилу.
— Я должен посвятить тебя в некоторые тайны, — сказал он ему за поздним ужином.
— Нет, не нужно, — откликнулся Гостемил. — Спасибо за доверие.
— Мне некому больше открыться.
— Не открывайся. Что за страсть такая — открываться? Оставь, прошу тебя. Не утомляй себя и меня.
— А мне это необходимо.
Гостемил пожал плечами.
— Друг мой Хелье, — сказал он. — Судя по растерянному выражению лица твоего, ты запутался в какой-то любовной истории.
— Да.
— Тебе отказали, и ты страдаешь.
— Да.
— А тайны связаны с доказательствами твоей безграничной преданности предмету и черной неблагодарности со стороны предмета.
— Откуда…
— Откуда мне все это известно.
— Да.
— Из поэмы Ибикуса.
— Которой?
— Любой.
Помолчали.
— Так нельзя рассуждать… — начал было Хелье.
— Можно, уверяю тебя. Если женщина заставляет тебя страдать еще до того, как ты ее познал, что же будет после того, как ты ее познаешь? Это не дело, брат Хелье. Многие думают, что женщину можно приручить, познав ее. Это заблуждение!
— Я ничего такого…
— Тем более!
— Я из-за нее ездил к грекам! — выпалил Хелье, желая поделиться чувством обиды и несправедливости.
— Ну вот, видишь. Ездил, утомлялся. А как только ты ее познаешь, тебе захочется познать ее еще раз, и в обмен на обещание она пошлет тебя к печенегам, к арабам, к черту, и ты поедешь, и это будет глупо. Нельзя баловать женщин услужливостью, они от этого становятся нестерпимо циничны и надменны, вне зависимости от сословия.
— Хорошо тебе рассуждать, — возразил Хелье. — Ты, похоже, вообще равнодушен к женщинам.
— Я-то? — Гостемил улыбнулся недоуменно. — С чего ты взял?
— Мне так кажется.
— Я просто придерживаюсь приличий. Не обязательно показывать всему миру то, что можно и не показывать. Мир обидчив очень, да и завистлив. К чему его в искушение вводить понапрасну.
— Ты любил ли когда-нибудь?
Гостемил улыбнулся и подмигнул.
— Любил.
— И что же?
— Ничего.
— Она тебе отказала?
Гостемил рассмеялся.
Что говорить с человеком, который любит только себя, подумал Хелье. Эка высокородные обособились, никто им не нужен, живут себе беззаботно из поколения в поколение. Это потому, что давно их здесь не трясли. Правильно Дир сказал — воевать они низших посылают, а сами вот. А у нас в Сигтуне любой высокородный — вчерашний ниддинг или сын ниддинга.
Но, конечно же, прав Гостемил отчасти. На что я могу рассчитывать в лучшем случае? Быть ее слугой, которого иногда из каприза допускают до ложа? А я, в общем, согласен, подумал он мрачно. Амбиций у меня никаких особых нет, ни к власти, ни к карьере я не рвусь, к богатству страсти не испытываю. Без семьи могу вполне обойтись, ничего хорошего в семейной жизни все равно нет, сплошное беспрерывное упражнение в терпимости. Вот и буду ей слугой. Должна же она наконец сжалиться надо мной, а?
Да, возможно. Но тем временем она ходит к кому-то по вечерам. Она к нему, а не наоборот. Какой-то ухарь, хорла, щупает ее каждый вечер потными лапами. Какое-нибудь ничтожество. К грекам ради нее не ездившее.
Следующим вечером Хелье занял наблюдательную позицию под липой недалеко от входа в детинец. Солнце зашло. Запели вечерние птицы, замяукали где-то нервные киевские коты, зажглись некоторые звезды. Хелье изгрыз себе ногти, сидел, стоял, полулежал под липой, не сводя глаз с ворот. Наконец послышались голоса — стражники кого-то буднично приветствовали. И вскоре Мария действительно вышла за ворота в сопровождении служанки. Выждав интервал и успокоившись, ибо настало время действовать активно, Хелье последовал за ними. Улицы вокруг детинца летом больше напоминали лесные тропы — деревья росли очень густо, их не вырубали, листва отбрасывала тень на дома, в которых иначе, из-за жары, было бы противно жить.
Женщины свернули на поперечную улицу. Вскоре к ним присоединились двое ратников, и Хелье понял, что тот, к кому заходит Добронега, резидентствует не в непосредственной близости детинца. На Горке особой нужды в охране не было — кругом стража, достаточно крикнуть, и дюжина ратников тут же прибежит, и будь ты хоть сам Свистун Полоцкий со товарищи, до тиуна дело не дойдет. Печенеги, бесконечно наглые и заносчивые на Подоле, никогда здесь не появлялись.
Держась все время в тени, Хелье следовал за Марией, служанкой, и ратниками. Еще раз свернув, группа направилась круто вниз по спуску. Хелье подумал, что если где-то здесь ждет Марию повозка, то сегодня он ничего не узнает, а на следующий день придется сесть на коня. Сама мысль о верховой езде была отчаянно неприятной, хотя натертости в паху и на тыльной стороне колен давно исчезли, а ладони зажили.
Но нет. Выйдя на пологую улицу, группа прошла по ней пол-аржи и свернула в какой-то двор. Не доверяя калитке, которая могла в самый неудачный момент скрипнуть, Хелье перелез через забор.
Небольшой дом, в окнах свет, ставни открыты. Группа скрылась в доме. Хелье вытер вспотевшие руки о порты, переместился к стене, и пошел вдоль нее, заглядывая в ставневые щели. Какие-то варанги, какие-то женщины в странных одеждах. Пьют и разговаривают. Хелье обошел дом сзади и двинулся вдоль противоположной стены. Сквозь третью по счету ставню он увидел, наконец, Марию.
Соперник его был на голову выше ростом, чем Хелье, шире в плечах, благороднее лицом, и заметно старше. Лет тридцать, решил Хелье, а может сорок. Судя по роже — варанг. Голый до пояса. Держит Марию своими лапами. Целует. Отпускает. Идет к окну.
Хелье поспешно натянул себе на голову темно-синюю сленгкаппу, выбранную им самим на торге и похожую на плащи, которые он видел в Константинополе, присел под окном и затаил дыхание. Скрипнула ставня и соперник выглянул наружу и посмотрел по сторонам. Ничто в темном дворе его не насторожило. Он снова прикрыл ставню, выждал какое-то время, а затем резко ее распахнул. Хелье, уже хотевший было подняться на ноги, был рад, что не поднялся. Ставня снова закрылась, а затем жидкий свет, пробивавшийся сквозь щели, исчез. Хелье поднялся. В помещении было темно. Он приник ухом к ставне.
— Вроде никого, — сказал голос соперника по-норвежски.
* * *Мария смотрела широко открытыми глазами в темный потолок. Сползший с нее Эймунд сопел ей в плечо, конец его белесой бороды щекотал ее ребра. Ей нравилось, что она может вызывать сильные чувства в этом сильном человеке, de facto повелителе самого могущественного тайного общества континента, по желанию сажающего конунгов и князей на престол. Этому человеку мало было Норвегии — он отказался от нее. Ему мало было и Руси. Он совершенно точно намеревался в скором времени стать повелителем мира. А когда они оставались вдвоем, Мария повелевала им. И это было приятно. Он был третий, и лучший, мужчина в ее жизни. Ей было двадцать лет. Женщина в ней пробуждалась изредка и засыпала снова. Эймунда это не смущало, а Мария об этом не догадывалась, хоть и чувствовала временами некую неуверенность и неудовлетворенность. За исключением особых страстных натур, молодые женщины всегда думают, что как бы ни было хорошо, лучшее все равно возможно.